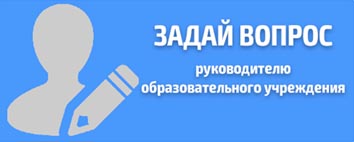|
|
ПОРТРЕТ Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, Пусть солдаты немного поспят. Из фронтовой песни Директор нашего краеведческого музея, узнав, что я собираюсь провести свой отпуск в Отраде, упросил меня написать портрет тамошнего председателя Зотова. И вот, захватив с собой краски и этюдник с холстами, я весь вчерашний день проторчал возле колхозной конторы в надежде подкараулить Алексея Максимовича. Перед конторой рос молодой тополевый парк. Аллеи тремя лучами разбегались от круглой клумбы, жарко пламеневшей гвоздиками. Я устроился на одной из планочных скамеек в самом начале аллеи. Отсюда хорошо было видно кирпичное здание правления с двумя колоннами по бокам еще не окрашенной двери. Из распахнутых настежь окон доносились щелканье костяшек, урчание арифмометра. Иногда звонил телефон, в окне мелькала белая рубашка счетовода, и вслед раздавался его недовольный голос: — Я вам уже говорил — председателя нет... Кто же его знает, где он. Колхоз велик... Что? Откуда я могу знать? Сами ждем. На этот раз трубка сообщила, очевидно, что-то важное, потому что счетовод вдруг смягчился: — Подождите минуточку... Коммутатор! Коммутатор, дайте третью бригаду... Третья? Там у вас нет Алексея Максимовича?.. Звонят из райпотребсоюза насчет яблок. Грозятся закупить в «Красном луче», если мы будем медлить... Уехал? Прямо беда с ним! Тут все уши оборвали телефонами. Увидишь — скажи, что звонили насчет яблок. Я слушал телефонные звонки и все больше терял надежду дождаться председателя. Искать же его по полям было бессмысленно. Да и где его найдешь? Раза два в аллею заглядывал колхозный сторож Киша, он же управитель парком,— живой, шустрый старикан в галифе и баскетбольных кедах. С почтительностью глядя на этюдник, перепачканный красками, он говорил: — Вот какая незадача. Нету, значит, нашего Лексея Максимыча. Как поехал с утра, так и не вертался. Да ведь ты сам рассуди. Пять деревень в колхозе. Восемьдесят верст, ежели кругом нашей земли объехать. Одних замков на амбарах, хранилищах, кладовых и прочих дверях четыреста штук. Это уж я тебе точно, как сторож, говорю. А прочей техники и вовсе счету нет. Тьма всего. Черт шею свернет в таком хозяйстве. Вот он, Максимыч, и вертится. Всему лад дать надобно. Дед запустил под кепку пятерню, озабоченно поскреб косматый затылок. — А ты, значит, с него портрет думаешь срисовать? — Да вот собрался... — От себя или указание дадено? — Указание... — Так, так,— одобрительно закивал Киша.— Давай срисовывай. У нас председатель красочный. Часа через два, когда уже заметно повечерело и я подумывал уходить, дед пришел еще раз. — Притомился небось, ожидаючи? — сказал он.— Видать, не будет нынче никаких делов. Приходь завтра пораньше. Глядишь, застанешь. На другой день я пришел к правлению часов в семь. Утро было тихое, ясное, с прохладными, резкими тенями от домов и деревьев. Клумба, обрызганная росой, казалось, была покрыта хрустальным колпаком. Дед Киша уже прошелся метлой по дорожкам и успел посыпать чистым, чуть влажным речным песком. На свежем песке я увидел отпечатки следов председательского «Москвича», обрадовался и поспешил в правление. В кабинете Зотова шло какое-то совещание. Вдоль стены и на подоконниках сидели бригадиры, заведующие фермами, агроном, знакомый мне счетовод и еще кое-кто. На председательском столе лежала зотовская фуражка с пропотелым донышком, а сам Зотов, по своему обыкновению, прохаживался у стола. Был он грузен, а с тех пор, как я его видел в последний раз, даже растолстел, особенно в поясе. Парусиновый китель, севший после стирки, выглядел на нем кургузо, из коротковатых рукавов торчали красные, налитые стариковской полнотой кисти рук, чем-то похожие на рачьи клешни. Китель на груди, между медными пуговицами, собрался в гармошку, и, казалось, стоило Зотову неловко повернуться или повысить голос, как пуговицы не выдержат, осыплются и раскатятся по углам. Постарел Зотов! В широкой спине появилась сутулость, голова совсем стала сивой, особенно на висках. Только ноги в легких хромовых сапожках, в синих армейских галифе, плотно обтягивавших икры, выглядели молодцевато. Зотов прохаживался вдоль стола, пружинисто и мягко ступая своими щегольскими сапожками по старенькому, вытертому ковру. Совещание, видно, уже заканчивалось: бригадиры прятали в карманы записные книжки, заминали папироски, а сам Зотов уже несколько раз протягивал руку за фуражкой и нетерпеливо поглядывал в окно. — Все, что ли? — Алексей Максимыч... Со стула поднялся рослый, плечистый парень в голубой трикотажной тенниске, со следами свежей стрижки на загорелой шее. — Ну что там еще? Гляжу я, Степка, крутишь ты что-то... Не хочешь ехать — не надо. Другого пошлем. — Да мы разве против... — Так чего ж ты? Деньги на дорогу получил? — Получил. — Продукты выписал? — Это все есть... — Ну? — Да вот дома как же? — А что дома? Я сказал буху, чтобы центнера два хлеба в счет аванса выписал. Это матери. Если еще что надо будет, пусть приходит, поможем. А теперь ступай. Помни — лес нужен, постарайся там. — Да уж за это, Алексей Максимыч, будьте спокойны... — Ну, ну, ладно, «спокойны»! Пробудешь недельку да и дернешь. Смотри, голову оторву... Давай иди, иди! Парень старательно приладил кепку на аккуратно зачесанные, крепко отдающие сиренью волосы и вышел. Вслед за ним стали расходиться и все остальные. Я улучил момент и протиснулся в кабинет. — А-а! — протянул Зотов.— Живописец! Здоров, здоров! Опять к нам? — Не откажете? — Себе — откажем, а уж служителю муз — всегда хлеб-соль. Когда приехал? — Уже три дня в Отраде. — Ну?! И не зашел! — Как — не зашел! Весь день вчера за тобой охотился. — Что такое? Я рассказал. — Ну, брат, в музей мне еще рановато,— рассмеялся Зотов.— Я еще тут, по земле, похожу. В музее только старые лапти да сарафаны вешают. — Нет, в самом деле, Алексей Максимович. Надо. Не мне разъяснять. — М-да... Зотов поскреб небритый подбородок, жестко зашуршавший под его пальцами. — Честное слово, много времени не отниму! — обрадовался я раздумью председателя.— Сегодня полчасика, завтра полчасика... — Вот не выполню хлебопоставок,— сказал он, хмуровато и снисходительно разглядывая меня,— тогда не только в музее, а и на телеграфном столбе мало повесить. Ты давай вот что... нарисуй-ка для нашего клуба картину. Веселую такую, яркую. Нашу, местную, а? Какие у нас места, я тебе скажу. Жигули! — Опять за рыбу деньги! На столе яростно задребезжал телефон. Председатель шагнул, широко облапил трубку. — Слушаю я... Какой трактор, чей?.. Степанова? А бригадир где?.. Фу ты, черт! Ладно, сейчас приеду... Вот тебе и портрет... Трактор стал. За маслом не уследили. Ты уж меня извини,— сказал председатель, нахлобучивая фуражку с заляпанным мазутом козырьком.— Сам видишь, не вольный я казак. Если хочешь, поедем вместе. Вот только посмотрю бумажки. Откуда они набираются? Не успеешь рассовать, глядишь — опять кипа. Есть же любители марать бумагу! Председатель сел за стол и, не снимая фуражки, стал просматривать папку. Я, ожидая, пока он освободится, остановился у раскрытого окна. На крыльце правления сидел разный люд. Зотов завел жесткий порядок: принимал в кабинете по личным делам только два раза в неделю. Сегодня день был неприемный, и председателя подкарауливали у выхода. Откуда-то вывернулся дед Киша с метлой и, как взъерошенный воробей, набросился на мужиков: — Совести у вас нету! Ишь сколько окурков нашвыряли! Говорят вам, нечего рассиживаться, день неприемный. Марш, марш отседа, пока председатель не увидел! Он бесцеремонно совал обтертой, колючей метлой под зад, и мужики, незлобно огрызаясь, по одному очищали порожки и нехотя расходились. «Москвичок» захрустел всеми своими суставами, когда Зотов садился за руль, накренился на левый бок, да так и оставшись кособоким, покатился по прохладной тенистой дороге. Сразу за парком машина серой мышью юркнула в глубокий зеленый тоннель кукурузы. B ee густой, душной чащобе перепархивали по шуршащим на ветру листьям бесчисленные зайчики. Золотистые, нарядные султаны покачивались над глубокой траншеей полевой дороги. Я глядел на всю эту буйную силищу, бьющую из земли почти трехметровыми фонтанами, и удивлялся неукротимой мощи чернозема. Наконец стесненный кукурузой проселок выбежал на залитый солнцем простор и влился в широкую, накатанную дорогу. Глазам стало просторно. Зотов наддал газку, «Москвич» дернулся, как пришпоренный конь, и бойко покатил, убегая от ленивого, сонного облака пыли. За лесистой балкой открылась черная полоса свежевспаханной зяби с неподвижным силуэтом трактора у самого края. Было видно, как над железной кабиной дрожал и струился горячий воздух. Грачи, будто бригада ревизоров, деловито мерили пахоту неторопливыми шажками. «Москвич» свернул на стерню, запрыгал по бороздам и остановился у кромки зяби, как раз против тракториста. На резкий стук дверцы из-под днища дизеля высунулось растерянное лицо тракториста-подростка. — Подшипники целы? — еще издали крикнул Зотов, грузно поспешавший по вздыбленным комьям земли. — Да, кажись, цели... — «Кажись»! Две тысячи за машину отвалили, а ты — «кажись»... Где бригадир? — Возле комбайнов. — Пошли за ним? — Прицепщик побежал. — Ну-ка, дай гляну. — Постойте, я фуфайку постелю,— обрадовался тракторист. Зотов, кряхтя, полез под вскрытое, дышащее горячим маслом брюхо трактора. Парень, присев на корточки, участливо заглядывал под гусеницы. — Подай-ка тряпку. И отвертку. Шатуны стучали, что ли? — послышалось из-под машины.— Придет бригадир — сделайте перетяжку. И масляный насос проверьте. Только чтобы завтра — пахать. Понял? — Сделаем, Алексей Максимыч. — «Сделаем»! Вот допашешь клин — сниму с трактора к чертовой бабушке. — Я разве виноват? — У парня побелело лицо, и сразу проступили все веснушки, будто набрызганные пульверизатором.— Трактор старый, на нем хоть кто не сработает. — Мне твое «кажись» не нужно,— не слушая, ворчал Зотов.— Это тебе не телега. Брат когда демобилизуется? — К Ноябрьским обещал... — Ну вот, трактор отдадим ему, а ты... На курсы поедешь? Лицо паренька медленно налилось краской, и все его крупные просяные веснушки снова утонули и померкли. Уже далеко отъехав от трактора, Зотов, все время молчавший, проронил: — С одной стороны, вроде бы все хорошо: своя теперь техника, от МТС не зависим. Широкая оперативность. А машины все равно простаивают. Еще больше, чем раньше. — Почему? — Нет хороших механизаторов. Мне еще трактора три надо бы подкупить. Не могу. Некого на них сажать. Все опытные трактористы после ликвидации МТС в соседние колхозы ушли, по месту жительства. У них там хаты, коровы, деды-бабки. Двух переманил, срубы даже перевез. Да что это — капля в море. Приходится на дизеля прицепщиков сажать. Вот и лезешь чуть ли не под каждый трактор. — А механики на что? Зотов досадливо передернул плечами: — Сколько этих механиков? А моторов в колхозе более ста штук. Считай, тридцать тракторов, двенадцать комбайнов, тридцать две автомашины да еще всякие стационары. И все это разбросано на пяти тысячах гектаров, работает в напряженных условиях — пыль, грязь, тяжелый грунт, бездорожье, техническое бескультурье... Работы все срочные, календарные. Подошла жатва — разбейся, а в две недели свали хлеба. Иначе зерно в землю утечет. В этих условиях не механики решают, а рядовые. Нам нужно до предела загруженное машинное время. Вот на зиму человек пятнадцать по школам рассую. И еще через некоторое время, как бы продолжая перебирать какие-то свои думы, сказал: — А много ли толку? Выучишь — в армию заберут. Да-а! Хорошие кадры собрать — лет пять надо. А они мне сегодня, вот сейчас нужны. И так во всем... Хвост вытащишь — нос вязнет. Диалектика! Среди поля показалось длинное строение с низкой шиферной крышей, донесся гул работающих машин. Мы въехали на ток. Над цементированной площадкой висела упругая пульсирующая дуга. Выметываясь из зернопульта, она проносилась в знойном неподвижном воздухе с легким шуршанием. На другом конце струя тяжело ударялась о ворох, который сразу начинал расти, как только женщины, орудовавшие совками и деревянными лопатами, на минуту переставали отгребать. Пахло полем и сытым, горячим ароматом свежего зерна. Неподалеку, дробно стукотя, работали от тракторного привода три сортировки. Просушенное зерно насыпали в мешки, вешали и грузили в автомашины. Зотов прошел к весам, развернул тетрадку, привязанную шнурком вместе с кургузым карандашиком к коромыслу весов. — Сколько машин ходит? — вскинул он глаза на заведующего током, бритоголового, в красной майке, запорошенной мякиной. — Машины, Алексей Максимыч, все. Вот зерно не успеваем подсушивать. Мала бетонная площадка. Утром одну машину на элеваторе не приняли. Не прошла по кондиции. Пришлось там во дворе высыпать, досушивать. — Брезенты есть? Расстелите брезенты. — Да уж разостлали. — Расчистьте рядом стерню, утрамбуйте. — Да кто будет расчищать? — А ты что, инвалид? — Ну, я — ладно. А еще кто? Бабы и так вон без разгиба зерно лопатят. — Значит, ничего нельзя сделать? Будем срывать график? — Зотов отбросил тетрадку, и та закачалась на бечевке. — Почему — нельзя? Дайте бульдозер — полчаса делу. — Привыкли: чуть что — бульдозер, трактор! Вон Магнитку без бульдозеров строили. Лопатами да тачками,— ворчал Зотов, доставая из кармана блокнот.— Трактористов у меня нет. Все заняты.— Написав что-то в блокноте, Зотов вырвал листок.— На, съездишь к завгару — пусть сам пригонит бульдозер. Скажи, что на часок, не больше. Щупая на ходу зерно, Зотов подошел к сортировкам. Постоял, поглядел, подозвал к себе молодую женщину со вздернутым животом, железной мерой насыпавшую зерно в бункер сортировки: — Ну-ка, поди-ка сюда, Настя. Женщина отставила меру, подошла, охорашивая передник. — Гляжу — тяжелая, что ли? Настя засмущалась, начала подсовывать волосы под платок. — Ну и... и как же ты?.. Может, тебя на птичник отправить? Пока суть да дело... — Да нет, Алексей Максимыч, я уж тут... — Ну, смотри, девка! А то принесешь семимесячного... Мне такие в колхозе не нужны. — Не принесу! — блеснула глазами Настя.— Крепче будет! Сев в «Москвич», Зотов надавил стартер, но, что-то вспомнив, открыл дверцу и, выставив одну ногу на землю, крикнул: — Как, обед возят? — Вчера привозили! — откликнулись бабы.— Оставайтесь с нами обедать. Зотов не ответил, но, повернувшись ко мне, сказал: — Побудь-ка здесь. А я, не бойся, не сбегу. Съезжу в одно место и заверну за тобой. Край надо съездить. Я стал отговариваться. — Нет, нет... Вылезай, вылезай! Ну чего без толку мотаться? Порисуй, с людьми побалакай. Говорю — заеду. Не зная Зотова, я бы, конечно, обиделся: говорил он со мной снисходительно, как с малым ребенком. А в этом «порисуй» проглядывало снисхождение уже не к моей персоне, а ко всему моему занятию. Но я понимал: хитрил Зотов! Он хотел, чтобы я остался и пообедал на току. Пришлось уступить. Хлопнула дверца, «Москвичек» сердито вычихнул синий клуб дыма, запрыгал, заскрипел рессорами на примятой стерне. Где еще мотался он — не знаю. Я уже зарисовал несколько листов альбома и успел до костей прожариться в печной духоте августовского уборочного дня, а его все не было. Наконец он подъехал, я влез на заднее сиденье, и мы покатили. — Поедем, покажу тебе лагерь. Показывать мне скотный лагерь Зотову не было никакой необходимости, просто ему нужно было туда зачем-то, и вез он меня потому, что деть меня некуда. Но мне и самому, честно говоря, никуда ехать больше не хотелось. Сморенный жарой, я безучастно смотрел на знойно желтевшую стерню вдоль дороги, на далекие комбайны, тут и там выплывавшие на взгорки. Машина шла быстро. Зотов сердито и размашисто вертел баранку, объезжая ухабы и колдобины. Меня бросало из стороны в сторону, «Москвич» гукал задним мостом, как загнанный жеребец ёкает, селезенкой. Одной рукой Зотов полез в карман кителя, очевидно, за носовым платком, чтобы вытереть взмокшую, багровую шею, испещренную сеткой морщин, и неожиданно для самого себя достал кусок давно засохшего хлеба. Поглядев на сухарь с недоумением, он сунул его в рот и спросил: — Покормили тебя? — Да нет... — Что, не привезли разве? Ах, черти! Специально выбраковали два десятка петухов. Варить лапшу для токов и комбайнеров. И сами себе угодить не могут. Чистые дети! Поедем ко мне, чем-нибудь накормлю. — Еще терпеть можно. — Поехали, поехали! Нечего дурочку ломать! Зотов решительно затормозил машину, дал задний ход и, вернувшись на перекресток, который только что минули, поехал по другой дороге. На въезде в село, возле угрюмоватого дома на высоком фундаменте, машина остановилась. Из-под куста бузины вылез большеголовый пес, оставшийся при доме еще от прежнего председателя. Жена Зотова прозвала его Фирсом — по имени старого чеховского лакея из «Вишневого сада». Фирс подбежал к Зотову, застучал по сапогам хвостом, обметая пыльные голенища. Мы вошли в прохладную горницу. Я и раньше бывал у Зотова, и с тех пор ничего в доме не изменилось. Все так же среди простенькой, наспех купленной обстановки надменно возвышался, холодно поблескивая хрусталем посуды, полированный сервант — единственная вещь, которую привезла с собой из города жена Зотова. — Я уже три дня холостякую,— сказал Зотов.— Моя старуха уехала к дочери, так что, извини, борщей не будет. Он принес кусок холодного мяса, с десяток яиц, тарелку помидоров, достал из серванта стопки. — Яйца сырые пьешь? Или яичницу? — Сырые так сырые... Только вот что, Алексей Максимович... Давай сначала попозируй. А? — Гляди, не забыл! — Хотя бы простой набросок. А то кто-нибудь явится — и опять улетишь. Зотов крупно, крест-накрест нарезал помидоры, посыпал их кольчатым луком и солью. — Что с тобой поделаешь? Давай, валяй... Я помчался к машине, вытащил из багажника холст, этюдник, начал готовиться к сеансу. — Может, побриться? — спросил Зотов. — Не надо, ничего не надо. — Что прикажешь делать? — Садись, голубчик... Больше ничего. Зотов, пряча смущение, неловко и грузно опустился на стул, не зная, куда деть руки. Наконец он пристроил их на растопыренных коленях и успокоился. — Сиди так... Свободненько... Некоторое время я приглядывался, потом, нащупывая, стал класть первые штрихи. — Так... Секундочку... Что, супруга привыкла к деревне? — Скучает... Я-то сам из лапотников. Это уж потом рабфак, коммунистическая школа и все прочее. А она всю жизнь в городе. — Да... трудненько привыкать... Писать Зотова вроде бы просто. Лицо резкое, суровое, черты проступают отчетливо. Лепи крупный нос, этакой мичуринской грушей; по лбу твердым нажимом проводи борозды; маленькие жидко-зеленоватые глаза утопи в складках век под тяжелым надбровьем... — Значит, скучает, говоришь?.. — Теперь, правда, не так... Я ей здесь дело нашел... Был у нас рояль. Когда ехали сюда, думали: куда его деть? Дочь училась в Харькове. Сын в армии. Я ей говорю: давай продадим. Куда, к лешему, везти его с собой... Неудобно, говорю, выбрали председателем, а я прикачу с роялем. Нет, уперлась: «Заберем да заберем»... Зотов говорил одними губами, не шевелясь, будто сидел в парикмахерском кресле. — Так... Линию рта намечай чуть искривленной: рот у Зотова косоватый, с какой-то насмешинкой в левом углу. Ну, а дальше массивный подбородок, а вокруг него толстая жировая складка, набегающая на воротник. — Ну, и что с роялем? — Привезли, понимаешь, сюда... Стали затаскивать, а он в двери не лезет... Вообще-то втащить можно было... Да я тут словчил малость. Давай, говорю, отвезем пока в клуб. Старуха было надулась. Ни в какую. Два дня ночевал рояль на дворе. А потом жалко стало, согласилась... Под Новый год сидели мы с ней на концерте самодеятельности. Попросили ее сыграть. С тех пор и пошло. Сама бегает, дрынчит, и молодежь около нее учится. У них там теперь что-то вроде музыкальной школы. — Обхитрил, выходит... — Нет худа без добра! — Это верно... Я отступил от холста, поглядел. Вроде бы все точно схватил. А Зотова нет. Вместо него какой-то сердитый, некрасивый человек непонятных занятий. То ли надменный чиновник, то ли отставной генерал-служака. Придется повозиться. Портрет — дело такое... к нему не приложишь анкету. Оставил лицо пока так и начал писать руки. — Это ты ее ловко обвел... Коротковатые рукава кителя беспорядочной смятой гармошкой задрались почти до локтя. Большие, неловкие в своей вынужденной неподвижности руки с какой-то подростковой застенчивостью лежали на коленях. Они чуть отекли и заломились глубокими складками в запястьях, а там, где начинались пальцы, в этой багровой, заветренной припухлости, над каждым пальцем залегли стариковские ямочки. Сами же пальцы, сдавленные с боков оттого, что всю жизнь теснили друг друга в работе, с натруженными, узловатыми суставами и кургузыми, горбатыми ногтями, были сильны даже в своем неподвижном лежании. Я увлекся, списывая эти терпеливые и добрые руки, и видел, как от их появления на холсте постепенно оживало и как-то добрело суровое зотовское лицо, как эти руки делали Зотова — Зотовым. — Так, так...— машинально твердил я. Мой карандаш торопливо шуршал и чиркал в тишине горницы, а Зотов, перенося томительную неволю, послушно глядел в окно, загороженное пыльным кустом бузины. Вдруг голова его как-то странно качнулась. Я вскинул глаза. Поддерживая грузное тело, зотовские руки по-прежнему твердо и терпеливо упирались в колени. Но седая голова безвольно поникла. Серая парусиновая куртка мерно вздымалась на груди. Верхняя пуговица при каждом вздохе покачивалась, словно на волнах, то опускаясь, то касаясь небритого подбородка... Двадцать минут безделья сломили старика. Я дорисовал руки, осторожно сложил этюдник и на носках вышел из комнаты. Серый, запыленный «Москвич» тоже дремал у обочины, дожидаясь своего хозяина.
На главную |