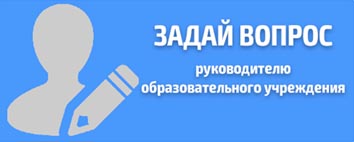|
|
АЛИМ ЕДЕТ НА КАВКАЗ От перрона маленькой азиатской станции вправо и влево разлетаются накатанные до слепящего блеска рельсы Турксиба. Над ними жидким стеклом зыбится воздух. Пахнет горячими шпалами и мазутом. За путями, в зарослях пыльной кукурузы, желтеют плоские крыши саманных мазанок. На пустыре среди навесов, арб и дынных ворохов пестро копошится воскресный базарчик. А дальше, за поселком, дремлют задымленные маревом Джунгары. Солнце давит землю тяжелым полуденным зноем. Серый асфальт перрона змеисто прогибается под ногами. Он горяч и вязок, и воробьи, склевывая крошки, поднимают то одну, то другую лапу. По перрону юлой вертится семилетний мальчишка, тоненький и глянцево-черный, как стручок акации. Из-под завитков смоляных волос фиолетово мерцают большие, округлые, чуть навыкате глаза. Мальчишка весь в подчинении этих глаз: куда они посмотрят, туда и бегут его голенастые, с узелками суставов ноги. Вот он сует ногу под тяжелый жгут водопроводной струи, вода бьет в лицо колкими искрами, мальчишка смеется, фыркает, а в окне будки появляется сердитая физиономия дежурной тетки. Он показывает ей язык, соскакивает с перрона, бежит, вихляясь, расставив руки, по раскаленной нитке рельсов, и вот он уже снова на перроне и, присев на корточки, осколком стекла выковыривает втоптанные в горячий асфальт старые проездные билеты. — Алим! Алим! Поди сюда! Под раскидистым карагачем, в косматую крону которого набился сине-кислый дым базарных мангалов, на багажной тележке сидит чеченка. Желто-пестрый платок козырьком надвинут на лоб. Видны только остро выступающий подбородок и сухой горбатый нос, янтарно просвечивающий, как копченый балык. Она кормит ребенка, завернутого в лоскутное одеяло, прикрывая грудь длинной бахромой платка. За ее спиной на багажной тележке лежит узел, к которому приторочен высокий медный чайник с неясной чеканкой на боках. — Алим! — Мама, я нашел билеты! — радостно кричит мальчишка. — Глупый, это же старые билеты,— усмехается чеченка. — Нет! — упрямо трясет кудрявой головой Алим.— Один только старый, в смоле. А два совсем новые. Мальчишка протягивает матери три кусочка картона. — Вот, смотри. Теперь мы поедем. — Какой глупый! — отмахивается чеченка и ласково щурит глаза. — Почему говоришь — глупый? — горячится мальчишка.— Почему глупый? Они совсем хорошие. Один — тебе, другой — мне. А этот... он немножко в смоле. Этот — ему...— Он ткнул пальцем в лоскутное одеяло.— Мама, а куда мы поедем? — Я ж тебе говорила. Мы едем домой.. — А разве где мы жили — не дом? Этот дом, где мы жили,— не дом? Это плохой дом, да? — Дом хороший. Но это не наш дом. Мы жили на квартире. — А где наш дом? Наш? Понимаешь? — Наш дом далеко. — Где, мама? Где? — Алим дергает мать за козырек платка. — Отстань! — сердится чеченка, свободной рукой поправляет платок и подсовывает под него выбившиеся волосы.— Я тебе уже говорила. Наш дом на Кавказе. — Что такое — на Кавказе? — Это где я родилась. — Ты родилась дома? — Да. Алим думает, разглядывая на ладони билеты. — А я родился на квартире? Да? — Отстань, Алим. Не мешай спать маленькому.— Чеченка лезет за пазуху, достает деньги.— Сбегай лучше на базар. — Давай! — Алим хватает деньги, собирается бежать. — Подожди! Купишь чебуреков и дыню. — Ага! — кричит Алим, перепрыгивая через рельсы. Он бежит к базарной площади, размахивая руками и выкрикивая: — Чебуреков и дыню! Чебуреков и ды... Запнувшись, шлепается на землю и, прихрамывая, ныряет в толпу. — Ай, бесенок! — цокает языком чеченка. Полуденный зной лениво перемешивает полосатые чапаны, белые войлочные шляпы, пестрые платки. Среди арб и навесов пчелино гудят голоса. Изредка взлетают обиженные вскрики ишака. Он кричит дико, навзрыд, всем животом втягивая воздух. Но, продув свое горло, добродушно помахивает хвостом и сует мягкие подвижные губы в недоеденные арбузные корки. Из-за арбы выныривает Алим. Рот у него до ушей от довольной улыбки. Он скачет через рельсы, часто мелькая коленками и прижимая к животу румяные чебуреки. За спиной на карагачевой палке упруго покачивается желто-крапчатая дыня. — Мама, еще горячие! — радостно кричит Алим. Он сбрасывает чебуреки на цветастую юбку чеченки и торопливо трет ладошкой по жирному пятну на животе. — Куда же ты бросаешь? — сердится мать. — Обжегся! Бежал, бежал — хотел бросить. Чеченка расстилает тряпочку и перекладывает чебуреки. — А вот еще дыня! Понюхай! — Алим,— чеченка подозрительно оглядывает сына,— а ты ел мороженое?! — Да? — бесхитростно удивляется Алим. Он высовывает язык и старательно слизывает с подбородка мутноватые капли. — Я же вижу — ты ел мороженое! Алим вопросительно смотрит на мать большими фиолетовыми глазами: он никак не может понять — плохо или хорошо, что съел мороженое? На его лице то вспыхивает, то гаснет неуверенная улыбка. — Я сказала — купи дыню и чебуреки! — Я принес дыню и чебуреки. — Но ты еще купил мороженое! Алим опускает голову, часто мигает черными щетками ресниц. Над ним сердито петляют осы. Они садятся на истекающую соком дыню, бестолково ползают, наскакивая друг на друга. С кончика согнутой палки падают на горячий асфальт торопливые капли. Алим, понурив голову, водит по асфальту большим пальцем ноги. — Что же ты молчишь? — вспыхивает чеченка.— Иди сюда... Алим отпрыгивает от протянутой руки. Дыня съезжает на палке к самому концу, палка сгибается полудугой и вдруг, освободившись от груза, высоко вскидывается. Гулко крякнув, дыня шлепается на перрон. От неожиданности Алим втягивает шею, будто дыня обрушилась ему на голову. — Что же ты сделал! — вскакивает с тележки чеченка. — Она сама...— бормочет Алим, присев на корточки и торопливо составляя сахаристо-влажные ломтики.— Я сейчас сделаю... Чеченка хватает мокрый от сока прут: — Шайтан! Ты потратил деньги! Ты разбил дыню! На тебе! На... на... Алим визжит, старается схватить палку. Наконец ему удается вырваться. Он прячется за угол багажного сарая, опускается на землю и, прижавшись к стене, плачет, вздрагивая острыми плечиками. Чеченка баюкает раскричавшегося малыша, кладет его на тележку и собирает куски дыни. Платок сползает на затылок, открывая смуглое, узкое, некрасивое лицо, еще не остывшее от вспышки гнева, и большой вислый нос. Он, как горный хребет, отделяет друг от друга глубоко утопленные озера-глаза, переполненные влажной синью. От седеющих висков к глазам протянулись ручейки морщин, незаметно прорытых в прочной породе молодости. И только губы, еще совсем свежие, не утратили наивного девичьего склада. Положив куски дыни рядом с чебуреками, чеченка развязывает узел, достает белый дырчатый кусок брынзы. — Шайтан! Нам еще ехать далеко, а ты меня совсем измучил. — Да? — всхлипывает Алим.— Да? — Нам надо беречь деньги. — А дыню я не купил... — Ты ее стащил? — Нет! Я подошел к деду. У него много дынь. Я сказал: «Почем дыня?» — Ну? — Он сказал: «Есть у тебя, деньги?» Я показал ему деньги,— дергая плечиками, выговаривает Алим. — Ну? — Он сказал, где я взя-ал. Я сказал, что ты дала. Я показал, где ты сид-дишь. Он спросил, куда мы едем. Я сказ-зал — на Кавказ. Он спросил, где мой отец. — А ты? — Я сказал, что ему нельзя ехать с нами. Он ум-мер. Алим выглядывает из-за угла мокрыми сливовыми глазами. Мать, опустив нож, смотрит куда-то далеко, на сизые хребты Джунгар, где остался отец. Он зарыт в старом рудничном отвале среди гор. Кладбище из черной отработанной породы. Ни травы, ни кустика, только железные конусы над могилами. Там хоронят силикозников. Алим всхлипывает, изредка дергаясь всем маленьким черным тельцем. — Тогда дед погладил меня по голове,— сказал Алим. Что-то черное, мягкое шлепается рядом с ним на асфальт. Алим, еще не поняв, что такое упало, машинально накрывает серый комок рукой. В его кулаке оказывается молодой воробышек. Он вздрагивает сдавленными крыльями, силясь разжать кулак. Мокрые ресницы Алима широко распахиваются от удивления. Он даже не заметил, как очутилась в его руке эта птичка. — Он погладил тебя по голове? — вздохнув, переспрашивает чеченка, продолжая нарезать брынзу. — Ага. Он погладил и сказал: «Расти большой» — и дал мне дыню... И я купил мороженое. — Значит, ты ему не платил? «Чи-слив!..» — вдруг громко выкрикивает воробышек. Алим вздрагивает от неожиданности. — Алим! И он не взял денег? Но Алим не отвечает. Он не слышит, что говорит мать. В его руках маленький настоящий воробышек с желтой оторочкой в уголках рта. Он громко чивикает и щиплет за палец. На щеках Алима еще блестят мокрые полосы, но обида уже забыта, и большие глаза снова сияют радостью. Той самой радостью узнавания и удивления, с какой, отбиваясь от всех огорчений, смотрит всякий мальчишка на наш старый большой мир. — Мама, а у меня воробышек! У меня воробышек! — вскрикивает Алим и, подняв над растрепанной головой птенца, бежит по перрону.— Посмотри, какой! Кусается! — Ах, Алим, какой ты у меня! — качает головой чеченка. — Мама, дай ему кусочек чебурека! — Он не будет есть чебуреков! Поешь ты. Они совсем остыли. Поешь, сынок. — Я возьму воробышка с собой на Кавказ. — Нет, Алим, его надо выпустить. — Нет! Мы с ним играем. — Если тебя отнять у матери, тебе это хорошо? Алим долго, внимательно смотрит на мать, будто видит ее впервые. Смотрит, думает. — Если тебя вот так будут держать в кулаке, тебе будет хорошо? Алим переводит взгляд на птенчика. Воробей беспомощно вертит головой в цепких пальцах Алима, широко раскрывая клюв. — Каждый должен жить: воробей — на своем дереве, человек — на своей земле. Отпусти его, Алим. Забрось на крышу. К нему прилетит его мать. Алим подходит к багажному сараю, размахивается и бросает птенца на крышу. Воробей срывается с карниза и, вытянув шею, летит к далекой для него ветке. Он отчаянно работает крыльями, помогает себе громким чивиканьем — вот уже ветка совсем близко,— но, не дотянув самую малость, поворачивает и летит косо, снижаясь, над перроном, над железнодорожными путями... Алим, вытянувшись в струнку, следит за ним и вдруг, спрыгнув с перрона, бежит следом. Гулкий железный лязг, горячий песчаный вихрь и рев гудка обрушивается на платформу. — Алим! Алим! — дико вскрикивает чеченка. Грохочущая стена вагонов перегораживает путь. Человек в красной фуражке хватает женщину поперек. Чеченка колотит его локтем в лицо, сбивает фуражку. — Пусти! — кричит она, оскалив зубы.— Пусти! Визг тормозов заглушает крик. Колеса скрываются в едком дыме жженого чугуна. По вагонам проносится гулкая судорога. Последний вагон, открыв пути, останавливается у конца платформы. — Алим! — кричит чеченка в тисках рук железнодорожника. Прыгая через пути, к перрону бежит Алим. — Поймал! — радостно горланит он.— Вот он... Чеченка обессиленно опускается на багажную тележку, закрывает лицо сухими черными пальцами. Вокруг нее собираются люди. Старая казашка с водокачки подхватывает проснувшегося малыша. Алим протискивается среди людей и непонимающе глядит на мать. — Мама! Чего ты плачешь? Я ведь его поймал... — Ах, Алим!..— Она отнимает руки и жадно-печальными глазами глядит на сына.— Какой ты! А нам еще так далеко.
На главную |