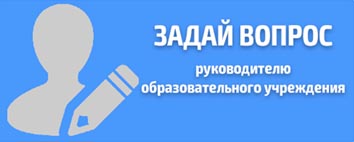|
|
ВО ПОЛЕ БЕРЕЗОНЬКА СТОЯЛА Мы разбили лагерь на берегу глухого плеса, проплыв за день тридевять излучин вниз по течению. На той стороне черной ратью, угрюмо и молчаливо высился лес, темня воду своим отражением. Заря только что отполыхала. Лишь за гребнем леса среди вороха пепельных облаков еще чуть багровело небо, будто слабый отсвет углей в потухающем костре. Мы молча смотрели на это гаснущее пятнышко прожитого дня, и только когда оно окончательно померкло, все будто проснулись, все вдруг стряхнули с себя невольное оцепенение. Саша Акимушкин, мой верный Санчо по рыбацким передрягам, яростно отмахиваясь от пляшущего комариного облака, спустился к реке. Пока он, звеня цепью, привязывал лодку к жидким кустам лозняка, чтобы ее не унесло ночью течение, мы с Антоном Степановичем натянули палатку и раздули костер. Пламя, отражаясь в закопченных смолистых боках котелка, запылало ярко и ровно. Вечер тотчас спустился на огонек и стал за нашими спинами. В сгустившейся темноте растворились и лес на том берегу, и сама река, и купы лозняка на нашей стороне, и долговязая фигура Саши. От зримого мира остался лишь освещенный костром островок. За неписаной чертой этого зыбкого, беспрестанно колеблющегося круга топталась ночь, притягивая к огню, будто озябшие руки, косматые лапы дремлющих елей. В полосу света влетел огромный жук, неуклюже покружился, ударился о туго натянутую палатку и потом долго жужжал, запутавшись в траве. Но мы не чувствовали себя заброшенными и одинокими на этом крошечном освещенном островке среди безбрежного океана ночи. Напротив, вечерний костер вносил в нашу бродячую жизнь ощущение уюта и оседлости. С гулким всплеском, отозвавшимся эхом по всей реке, что-то бултыхнулось у нашего берега. «Сом, что ли?» — подумал я, но вскоре по шумному отфыркиванию и звонким шлепкам догадался, что это Саша. Он долго барахтался в реке, наконец, вылез, и сквозь шелест раздвигаемых кустов послышался его вызывающе громкий, ликующий голос:
Разливы рек, Раскаты грома, Дождя веселые шаги. Чего же мне еще? Я дома, А дом мой — плащ и сапоги.
И, подбирая мелодию, Саша пропел дальше:
И не беда, что сверху мочит, Литою дробью в спину бьет. Вот только так душа и хочет, Уюта лучшего не ждет!
Всем нам троим, заядлым удильщикам, ни разу не истратившим свой отпуск на черноморский пляж, действительно не нужно було иного уюта, кроме этого дымного костра и охапки свежей травы под боком. После чая я попросил Сашу почитать еще что-нибудь. Потом говорили о секрете проникновенности и задушевности стихов, о поэтическом даре. — Мне думается,— сказал Антон Степанович,— что самое главное для поэта, да и вообще для человека искусства — это держать в фокусе своей творческой линзы окружающую жизнь, чтобы она имела ясное, четкое, доступное каждому глазу изображение. — Ну что ж, с вашей творческой линзой, дорогой Антон Степанович, вполне можно согласиться,— сказал Саша.— Но мне хочется на этот счет выразиться словами поэта:
Отыми соловья от зарослей, От родного ручья с родником, И искусство покажется замыслом, Неоконченным черновиком. Будет песня тогда соловьиная Будто долька луны половинная, Будто колос, налитый невсклень. А всего и немного потеряно: Родничок да ольховое дерево, Дикий хмель да прохлада и тень!
Мы лежали в траве и смотрели, как по дрожащим от жара углям перебегали голубые огоньки. Антон Степанович изловил сухой лозиной одну такую голубую змейку и перенес ее в свою трубку. Трубка затрещала, до краев налилась жаром, озарила серую застреху усов, впалые щеки, перепаханный глубокими бороздами лоб. — Ты написал? — Куда мне? Я так не сумею. — Хорошее стихотворение,— сказал Антон Степанович, помолчав.— Как это? «Отыми соловья от зарослей!» Хорошо вы, бестии-поэты, можете сказать одной строчкой. Только, мне кажется, не к каждому соловью это подходит. Разные бывают соловьи. Если спать не хотите, расскажу одну историю. Вам, молодым, она полезна будет. Мы всегда были рады слушать Антона Степановича, человека пожившего, прошедшего трудные университеты. — В начале двадцатых годов я приехал учительствовать в дальний Курский уезд,— начал он.— Был я тогда совсем молод, зачитывался Есениным и смутно себе представлял, что хотелось от жизни. Поселился я на краю деревеньки, вытянувшейся серой вереницей соломенных крыш над мокрым торфянистым логом. На той его стороне, за земляной гатью, высился обгорелый остов барского особняка с пустыми глазницами окон. По ночам там ухала и причитала сова. Выделенная мне комнатушка в бывшей приходской школе одиноко гляделась в поле. Единственное, на чем останавливался глаз, была высокая молодая березка, невесть кем посаженная на самом гребешке косогора. Ранним утром, заслышав сквозь шелест дождя ребячьи голоса, я шел на занятия. Низкий потолок, кривые полы, подслеповатые окошки. Густой кислый запах намокшей овчины и старых отцовских армяков. Косматые, нечесаные головы. Настороженные, с какой-то врожденной робостью взгляды. Дети нестройно поднимались со своих мест, и тогда особенно был заметен их разный возраст. Мы писали палочки и крючочки на обрывках обоев, учились счету на желудях и лучинах, потом я рассказывал про страны и народы, про Солнце и Землю, про моря и горы. Рассказывая обо всем этом, я невольно поглядывал на заднюю, у самой двери, скамью, где сидел остроплечий, с несообразно крупными килями рук подросток Кузьма Половнев. Он всегда смущал меня своим немигающим, застывшим в удивлении взглядом серых глаз под рыжими веками. Я никак не мог понять их выражения: то ли Кузьма был захвачен рассказом и жадно глотал каждое слово, то ли он вовсе ничего не воспринимал и глядел будто в рот фокуснику, который выдергивал из глотки бесконечные цветастые ленты. Иногда он полушепотом говорил, ни к кому не обращаясь: — Как же так? Земля нигде не кончается... Чудно!.. А если идти по дороге, все лето идти — куда придешь? Как-то я отыскал на чердаке старый глобус с надписью «Российская империя», растянувшейся от Варшавы до Аляски. На месте буквы «м» в слове «империя» зияла пулевая дыра. Кузьма бесцеремонно оттеснил сгрудившихся ребятишек, припал к отверстию глазом с озабоченным видом, будто через нее и взаправду можно увидеть нутро самой Земли. — Пусто. Одна паутина,— сказал он разочарованно. Окончив занятия, я шел к себе, ел холодную картошку с солеными огурцами (варил сразу дня на три, чтобы не тратить времени), потом садился за стихи. Знаться со мной почему-то никто не хотел. Когда я, случалось, появлялся на вечеринках, неизвестно почему, сразу смолкали песни и разговоры, все с нетерпеливым выжиданием поворачивались в мою сторону. И я спешил уйти. Писал я под Есенина, от первого лица. От написанных строчек сладко щемило сердце, и в этом душещипании я находил удовлетворение. Я теперь уже почти ничего не помню из написанного. Разве только вот это:
Я люблю в осенний день погожий С переломкой старою своей Побродить один по бездорожью Средь просторов золотых полей.
Вот болотце. Камышовый кустик... Тонко плачет чибис с высоты, И к ногам с какой-то нежной грустью Робко льнут последние цветы.
Может быть, во мне увидев друга, Шлют они прощальный свой привет, Словно знают, что седая вьюга Навсегда запорошит их след.
Мне в такие дни близка, понятна Блекнущих цветов немая грусть. Я лечу куда-то безвозвратно И в былое больше не вернусь. Таких стихов я насочинял множество. Писались они легко, быстро. Я глядел в окно на березку, одиноко торчавшую на гребне косогора, и писал, писал, находя в ней вдохновение. Я где-то читал, будто один большой философ только тогда и мог делать великие обобщения, когда смотрел в окно, за которым маячил шпиль далекой колокольни. У меня тоже только тогда и получалось, когда я смотрел на березку. В погожие дни она беспрестанно струилась на ветру. Когда же с утра до вечера сеял дождь, березка сникала и безропотно мокла. Случалось, перед самым закатом у горизонта открывалось чистое небо, и на березовую вершину садилось отдохнуть солнце, будто сказочная жар-птица. Запутавшись в ветвях, солнце рассыпалось пучками лучей. Скошенное поле вдруг озарялось низким, тревожным отсветом, вспыхивала и становилась отчетливо заметной каждая серебряная нитка паутины, развешанной по стерне. Вскоре пришел первый морозец, и березка начала осыпаться. Червонные листья далеко летели по ветру, набивались в жнивье, катились по проселку, и конские копыта втаптывали их в хрустящую от первого заморозка грязь. Зима в тот год выдалась лютая. На двери в классе выступила изморозь, и мы почти месяц не занимались. Потом я простудился и заболел. Школу опять пришлось закрыть. Я валялся на скрипучем, рассохшемся топчане, не зная, то ли утро, то ли вечер. Ходики над моей головой умолкли, будто само время остановилось и делать им больше нечего. Приезжал фельдшер, кем-то вызванный из уезда,— ветхий старикашка в куцем драповом пальто с остатками бархатного ворса на воротнике. Слушал, больно стучал по моей впалой груди деревянным пальцем с синим ногтем, а уезжая, прошамкал: — Следовало бы положить вас, сударь, в уездную больницу. Но не советую. Замерзнете в дороге. Прослышав о моей болезни, стал наведываться деревенский сторож Серафим. Долгую темную ночь он ходил от избы к избе, от одного края деревни до другого, и по тому, как слышен был в тихой морозной ночи сухой перестук его колотушки, я угадывал, где теперь шагает Серафим. Мне было спокойнее при мысли, что где-то за окном не спит, ходит живая душа, и когда колотушка стучала совсем рядом и вслед за ней слышался размеренный скрип снега по утоптанной дорожке, я с надеждой смотрел на свою дверь. Иногда она действительно открывалась. С клубами морозного пара в каморку вкатывался дед в длинном широкополом зипуне поверх полушубка. Он снимал овчинные рукавицы, отдирая от усов намерзшие сосульки, и с порога спрашивал: — Живой? — Жив пока, дед Серафим. — Где болит-то? В грудях небось? Ай-ай, как остыл! А я, сынок, дровец принес. Холодно тут у тебя. Замерзнешь... Он высыпал из сумки на пол стружки, обрезки дерева, кряхтя, становился перед печуркой на колени, и я видел подошвы его огромных подшитых и перевязанных бечевкой валенок. Дед Серафим выгребал из поддувала золу, подкладывал под стружки угли, которые приносил в глиняном черепке, и долго молча, будто был один в комнате, глядел в огонь, протянув к нему узловатые, ревматические пальцы. — А намедни Кирилла убили. Не слыхал? — сказал дед, глядя в огонь. — Нет, не слыхал. Кто ж его? — Неведомо. Комиссаром в Красной гвардии был. Год как домой по ранению вернулся. Бойкий был человек. Ну, видно, кому и не по нраву пришелся. Перечил. Вот и срезали. Топором в висок. Эх-хо-хо,— тяжело вздохнул дед.— И землю поделили, и смертоубийству вроде конец пришел, а выходит, война-то не закончена. Я силился припомнить, кто такой Кирилл, но поймал себя на мысли, что не знаю ни самого Кирилла, ни вообще никаких дел в деревне. Вот она рядом, а чем живет, какие страсти разгораются за ее внешне неприметным обликом, этого я не ведал. — Ну, я пойду постучу,— сказал старик, тяжело вставая с пола.— Вот кабы ружье... Он ушел, старательно притворив дверь, и я долго вслушивался в удаляющийся перестук его колотушки, показавшийся мне теперь тревожным и беспокойным средь немой, настороженной деревенской ночи. Иногда днем приходили ребята. Они боязливо тянули шеи к топчану и поспешно выкладывали кто краюшку ситного хлеба, кто крынку молока, кто пару яиц и, подталкивая друг друга, торопливо уходили. Однажды в лютую февральскую заметь, когда я никого не ожидал, в комнату ввалился Кузьма. Он стащил с головы огромную шапку из грубой свалявшейся овчины, стряхнул с нее хлопья мокрого снега, потом ею же обмел сапоги и, крупно шагая на носках, будто по вымытому полу, прошел к столу у моего изголовья. Лицо, в струйках талой воды, было озабоченно. Он запустил руку за полу армяка, вытащил пестрый ситцевый узелок, принялся развязывать его непослушными, озябшими пальцами. — Это донник, от хвори помогает,— сказал Кузьма, выкладывая на стол пучок сухой травы.— Когда батю белые побили, маманя узваром отпаивала. Кузьма постоял у стола, сунул ситцевый платок обратно за пазуху и повернулся к выходу. — Постой. Куда ж ты? Побудь... — Так ведь что ж быть-то? — Кузьма остановился посередине комнаты, теребя шапку.— Домой надо... — Посиди. Вон на столе книжки разные. Посмотри картинки. Кузьма потоптался, размышляя, пошел к столу и, весь закрасневшись, стал разглядывать книги, не решаясь притронуться ни к одной из них. Взгляд его остановился на раскрытой коробке акварелей. — А это что ж будет? — спросил он. — В коробке? Это краски. Ими раскрашивают. Послюни палец и потри по чашечке. Кузьма недоверчиво повел глазами в мою сторону, но послушался, помочил языком палец, притронулся к одной из баночек. Палец окрасился в веселый изумрудный цвет. Кузьма поднес мизинец к глазам и долго рассматривал. Затем намочил другой палец и выпачкал его в желтый, вслед за ним в оранжевый, в пурпурный... Он смотрел на свою растопыренную пятерню, и я видел, как его лицо озарилось изумленной радостью. — Хочешь, возьми себе,— сказал я, видя, какое впечатление произвело на него это открытие.— Бери, бери, они мне не нужны. Кузьма еще больше зарделся, неуверенно и бережно взял коробку, поднес зачем-то к носу — медом пахнут! — достал ситцевый платок, завернул в него краски и, не попрощавшись, вышел. Приближалась весна. За окном зашумел, застучал ставней сырой мартовский ветер. На деревне неистово загорланили петухи. Я почувствовал себя лучше. Появилась потребность что-то делать, и рука потянулась и нащупала в сундучке под топчаном заветную тетрадку со стихами. Раскрыл, стал перечитывать. На душе стало смутно, будто от выкуренной папиросы после долгой болезни. Вдруг захотелось воздуха, простора, солнца. Я встал, надел пальто, сапоги и вышел на крыльцо. В грудь ворвалась резкая, щемящая свежесть. Глаза сами собой зажмурились от яркого света. Я прислонился к столбу, поддерживавшему навес над порогом, постоял, привыкая к шальному весеннему воздуху. На школьной двери висел замок. Я обошел здание, выбрался на солнечную сторону, присел погреться на завалинке. Было удивительно радостно смотреть на весь этот торопливый ход весны, на земной и небесный простор, и на душе оттого становилось тоже просторно и хорошо. Мне казалось, что, пока я болел, поле как-то изменилось, раздалось вширь и вдаль. Постой, а где же березка? Глянул в ту сторону — и взгляд, ни на чем не задерживаясь, скользнул по гребню косогора: березки не было! Только заснеженное, сверкающее на солнце, открытое и потому особенно ставшее просторным поле! Было даже трудно представить, что там совсем недавно стояло дерево. Мимо по разъезженной дороге, залитой коричневым навозным отстоем, тяжело плелся дед Серафим. Нагибаясь всем телом вперед, он тащил салазки со старой соломой. Завидев меня, дед остановился, снял шапку, картинно поклонился, и ветер легко раздул, поднял дыбом его легкие жидкие волосы. — Вылез жук на солнышко! Слава богу! — крикнул он. — Дед Серафим,— крикнул я в свою очередь,— дед Серафим!.. Не знаешь, куда березка девалась? Вон там на косогоре стояла. — Березка? — дед повернулся навстречу солнцу, прикрыл лоб ладонью.— Шут ее знает. Случается, человека под корень валят, а не то что дерево. Небось кто на дрова срубил, а то и в хозяйство приладил. А тебе на что она? — Да так. Гляжу, была и нет. — Ну, ну... Гляди, гляди,— мирно сказал дед, наваливаясь на лямки.— А мне вот коровенку нечем кормить. У чужих выпросил. Хоть и живодер, а ничего не поделаешь, приходится шапку снимать... По хлюпкой дороге я побрел к месту порубки. Вокруг мшистого пенька натаяла вода, и в ней плавали уже побуревшие щепки. Тут же в осевшем снегу синела глубокая колея салазок. Я постоял, посмотрел на обломанные темнокорые ветки, валявшиеся вокруг, и пошел по санному следу напрямик, через поле. След привел на дальний край деревни. Навстречу выбежала рыжая в клокастой шерсти собака, забрехала сиплым кашлем. Из сарая вышел с вилами в руке хромой мужик, выжидающе остановился в проломе плетня. — А я думаю: кто такой? — сказал он, стаскивая шапку.— Теперь вот признал: Антон Степанов. Слава богу, поправился, значит. Проходь в хату, Антон Степанов. Рады хорошему человеку. Я пригнулся и ступил в черный прогал двери. После света и снега с трудом огляделся в полутемной, с одним окном передней. Пахнуло терпким коровьим духом. Возле огромной печи на соломенной подстилке топтался пегий мокроносый теленок, привязанный обрывком веревки к ручке лохани. Из горницы высунулись две растрепанные головки с удивленно раскрытыми ртами и тут же исчезли. За перегородкой просыпалась частая дробь босых ног. — Куська, музык присол, пряцься. — Проходь в горницу, Антон Степанов. Взгляд скользнул по низкой, с закопченным потолком комнате. Тускло сверкнула большая икона в темном углу, вдоль стен — деревянная прялка, сундук с горбатой крышкой, непокрытый тесовый стол в простенке, длинная скамья перед ним. Кузьма поднялся из-за стола, стряхнул с рубахи древесную стружку и так остался стоять за скамьей, глядя на меня своими округлыми серыми глазами под рыжими веками. Видно, я оторвал его от какой-то работы, и теперь, смущенный моим появлением, он не знал, что делать. В этой низкой комнате он казался выше, взрослее. Мы стояли и глядели друг на друга, и я никак не мог найти, о чем заговорить. На земляном полу валялись стружки — все, что осталось от моей березки, и сам вор стоял передо мной, глядя мне в глаза с нелепой наивностью. Вор, приносивший мне пучок сухого донника. — Я пришел... поблагодарить тебя за лекарство. — Так ведь за что ж благодарить-то? Донник у нас без надобности висел. Еще с той поры, как батю белые побили. Кузьма потупился. Он держал в руге короткий сапожный нож, обернутый бечевкой, и все время, пока стоял, проводил по его жалу мякотью большого пальца. — Ты что ж, сапожничаешь? — Не. — А что ж? — Да так... — Покажь, покажь свои художества,— сказал отец, стоявший в дверном проеме. — Да что ж показывать-то? Кузьма обернулся к столу, который был закрыт от меня спиной, и протянул какую-то фигурку. Это был вырезанный из дерева крестьянин в широкой навыпуск рубахе. У ног его лежал сноп. Сам же он, запрокинув голову, пил из кувшина. Работа еще не завершена, некоторые детали только намечены, но уже теперь видны правильные пропорции тела, и чувствовалось, что вся фигура делалась по хорошо продуманному и осмысленному замыслу. Черт возьми! Так ведь это же что-то настоящее, большое! Это не свисток из ивового прута, какие делают в таком возрасте деревенские ребятишки. Я вертел в руках вещицу и не верил тому, что видел. — Неужели сам сделал? — Угу... — И придумал сам? — А что ж тут придумывать? Сам рожь небось косил, знаю... — Нет, ты понимаешь, что это... большая ценность? — Ну, какая же это ценность? — сказал отец Кузьмы.— Дерево — оно и есть дерево. На базаре за пару яиц и то не всегда продашь. Вот теперь твоими красками размалевывать будет, небось охочей брать станут. Детишкам. Ребятам — им дай что попестрее. Да ты не робей, покажь человеку,— засуетился отец.— Видишь, что он говорит? Глядишь, и верно подороже запросить можно. Кузьма подошел к горбатому сундуку, открыл крышку и, рдея от смущения, стал подавать мне одну вещь за другой. Худая, натужно вытянувшаяся лошаденка, впряженная в соху; старик, сидящий на бревне, с дырявым лаптем в руках; корова, закрывающая боком теленка от напавшего волка... Кузьма доставал из сундука все новые и новые сокровища, и мои руки, принимавшие их, дрожали от охватившего меня безудержного, лихорадочного изумления. Неужели это все сделал он, этот парнишка, который не прочитал еще ни одной книги, не бывал нигде дальше околицы своей деревни и который никак не мог поверить мне, что Земля круглая? Откуда у него такое? Такая емкая, простая сила изображения? — Тебе, брат, учиться надо! — воскликнул я.— Обязательно! Непременно! — А я и учусь,— просто ответил Кузьма, и от его слов я смешался, вспомнив, что на школьной двери всю зиму висел замок... Домой я возвращался, унося в себе какую-то душевную смуту. Проходя мимо места, где когда-то стояла березка, я присел отдохнуть на пенек. В колее санного следа незаметно, чуть слышно струилась вешняя вода, сбегая вниз по склону косогора к дальнему краю деревни... Возвратясь домой, я первым делом достал из сундучка тетрадь и растопил ею печь: в комнате было холодно... Антон Степанович вспомнил о своей потухшей трубке, выколотил ее о ноготь большого пальца и полез в карман за кисетом. — Как-то я побывал в Ленинграде по своим делам,— сказал он после долгого молчания.— Зашел на досуге в Русский музей. Много там всего, чему можно удивляться. Но одна вещица поразила меня больше всего. На срезанном пне сидит молодой крестьянин, почти юноша. У ног его упавшая книга. Локтем правой руки он опирается о колено. На вытянутой ладони — соловей с раскрытым клювом. Юноша слушает с выражением глубокого раздумья. Вся эта вещь матово отсвечивает янтарной желтизной и кажется полупрозрачной. Читаю внизу: «Поэт. Карельская береза». И мне вспомнился Кузьма Половнев, деревенский мальчишка из нашего соловьиного края, когда-то отнявший у меня березку. Не его ли это работа? Все может быть...
На главную |