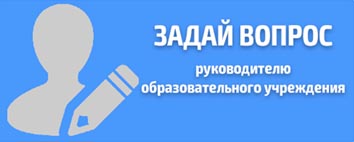|
|
ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА В раскрытое окно беззвучно влетел и опустился на мои бумаги кленовый лист. Он был похож на ладонь с широко расставленными пальцами. Словно чья-то рука потянулась к столу и закрыла написанные строчки... Да, пора домой, пора! За работой и не заметил, как промелькнул последний летний месяц! Я закрыл свою тетрадь, заложив на недописанной странице первый осенний лист, и вышел в сад. В саду было по-осеннему тихо и пусто, как в заколоченном доме. Я прошел лугом к реке, разделся и бросился в воду — в последний раз! Тело обожгло ледяным холодом, перехватило дыхание. Выбравшись на берег, я втиснулся спиной в чуть теплый песок и остался так лежать неподвижно в удобном, согревающем песчаном слепке с моего тела. Надо мной студеной синью раскинулось небо. Ни птицы в нем, ни облачка. Лишь иногда высоко-высоко сверкнет серебристой вспышкой одинокая прядка паутины, сверкнет и пропадет. И долго потом надо напрягать глаза, чтобы снова увидеть ее. В чуткой тишине осеннего дня послышалось негромкое бормотанье гитары. Показалось? Но нет... Чьи-то пальцы с задумчивой неторопливостью трогали то гулкие бархатистые басы, то мелодично звенящие нижние струны. Звуки переплетались в убаюкивающий, с легким оттенком грусти напев. Он был чем-то созвучен этим тихим осенним дням с их ясной синевой и высоким задумчивым скольжением паутины. Я быстро оделся. Гитара, повторив еще раза два мелодию, вдруг закончила ее энергичным аккордом. И снова тишина. Позади зашуршал песок. Я обернулся. В трех шагах выросла высокая статная фигура цыганки. Заметив меня, она остановилась, и мы некоторое время молча разглядывали друг друга. Ярко-желтый платок, небрежно накинутый на голову и едва прикрывавший только затылок, четко оттенял смуглый овал лица. У нее был небольшой с горбинкой нос с высоким вырезом ноздрей. Из-под густых бровей, почти сросшихся над переносьем, глядели изучающе, безбоязненно большие с влажной карью глаза. Чуть впалые щеки и широкие обветренные губы нисколько не портили лица, а напротив, лишь подчеркивали ту непривычную для нашего глаза красоту восточных народов, которая не оспаривает античной классики, но и нисколько не собирается уступать ей первенства. На цыганке была длинная, почти скрывавшая босые ноги пестрая юбка не менее чем в сотню складок. Поверх нее подвязан красный, далеко не свежий передник с оттопыренным карманом. Из-под платка виднелось днище гитары. — Здравствуй, красавец,— певуче приветствовала меня цыганка. — Здравствуй! — О чем мечтаешь, красавец? — спросила она, присаживаясь передо мной на корточки и заглядывая в глаза.— Не ломай зря голову, не раздумывай. Протяни руку, и я скажу, что будет. Ты родился под праздник. Ты счастливый человек, пятьдесят фунтов счастья... Не пожалей рубль, и я все скажу. — Соврешь ведь? — Если дашь рубль, правду скажу, а набавишь — две правды. — Как же ты обо мне судить будешь, если о своей-то судьбе ничего не знаешь? — Моя судьба цыганская: солнце жжет, дождь мочит, вольна степь кругом — сердце песни хочет. — Какие уж там песни: зима на носу. Замерзнешь в своей кибитке. — В Молдову уедем.. — А если конь по дороге околеет? — Зачем так говоришь? — цыганка сердито встряхнула головой. Под ухом качнулось тяжелое кольцо серьги. Из-под платка выбилась толстая иссиня-черная коса, увешанная монетками. — Не понимаю, как можно целую жизнь кочевать. Неужели тебе не хочется по-человечески пожить, как наши женщины живут? — Пожалел человек птичку да посадил в клетку! — усмехнулась она. Мне нравилось, с какой непринужденностью держалась цыганка. Впрочем, для нее это было привычно. С ней примерно все так разговаривали. И она разговаривала так со всеми. — Ну, а дети у тебя есть? — не сдавался я. — Двое остались. Пацан да девка. Шостый годок пошел. — Так неужели не хочешь, чтоб они настоящим делом занялись, образование получили? Без образования шагу не шагнешь сейчас. Скоро и людей таких не останется, которых картами обманешь! — Карты не обманывают,— упрямо сказала цыганка.— Человек обманывает. Ты не веришь — не гадай. Я в душу не лезу. А бабы твои гадают. Баба она баба и есть. Ей чего-то хочется — сама не знает. Вот и гадает. Я усмехнулся. Она, оказывается, не такая уж фанатичная. Тонко разбирается в своем ремесле. — А ты не смейся,— сказала цыганка. — Я и не смеюсь,— ответил я и заговорил о том, что каждый человек в наше время должен делать полезное дело. Все равно какое. Что сейчас каждый хочет жить честнее. И что людей сейчас уважают только за дело. И что стыдно и дико жить так, как она живет. Цыганка глядела на меня хмуро, враждебно. Лицо ее сделалось некрасивым, угловатым. Губы плотно сомкнуты. Сухие длинные пальцы в синих прожилках не переставали теребить монетки, вплетенные в косу. — Злой ты человек! — глухо произнесла она наконец. — Почему? — В сердце кусаешь, как змея. Цыганка вскинула голову, зло улыбнулась, обнажив ряд белых зубов. — Что ты знаешь о нашей жизни? У какой твоей молодки была такая свадьба? Ну, скажи! Разве у вас свадьба? Умереть со скуки. Черные глаза цыганки вызывающе заблестели. — Мы тогда стояли табором под Мариуполем. Я была еще девчонкой. Пятнадцать лет. Красива, как тебе не снилось. А какие песни я знала! Кони переставали траву щипать... Она говорила, помогая себе жестами. Платок сполз на плечи, открыв черную смоль волос с пробором посередине. — А скажи, у какой твоей молодки было столько женихов? Чтобы сразу сидели они у одного костра! Подарки какие! Серьги да монисты! Но я не спешила. И была я весела, и смеялась я и пела, потому что могла выбирать. А потом выкрали меня и увезли в чужой табор. Целый день скакали по степи отец с дружками. А я пряталась в чужом шатре под перинами. Если бы отец нашел, запорол бы плетью. Вот как у нас! Вся степь на ноги поднимается, когда у цыганки любовь. Не то что ваши жених с невестой. Сидят в хате и вилками в тарелках ковыряют! А под вечер жених достал из котомки кожаный пояс весь в серебре, опоясался им и ускакал. Вернулся утром, хмельной, без пояса. «Где был?» — «У отца твоего. Вино с ним пил, пояс подарил». Три дня гуляли свадьбу. Снесли котлы со всего табора. Все шатры сдвинули. Один большой шатер сделали. Ковры расстелили. Пили, веселились цыгане, бросали на ковер деньги, серьги, гребни дорогие. Ай, какая это была свадьба, красавец! Глаза лопнут от зависти. Цыганка неожиданно поднялась. — Постой, куда же ты? Цыганка остановилась вполоборота. — Что зря языком болтать? Пойду гадать, людей обманывать. Мужу на табак даже не собрала. Придет — серчать будет. Значит, жалко дать рубль? Эх, ты! Денег со мной не было. Я достал яблоко, найденное в саду, и бросил цыганке. Она ловко подхватила его на лету, сунула в карман и пошла прочь привычной статной походкой, и при каждом шаге сборки на ее широкой и длинной, до пят, юбке ходили вокруг ног то вправо, то влево,— походка, которой позавидовала бы не одна наша женщина. Остаток дня я бродил по берегу, посидел рядом с каким-то рыбаком и, возвратясь снова к мели, свернул на тропинку к дому. С той стороны, откуда утром доносились звуки гитары, послышался крик. Слов я не понимал, но по голосам догадывался, что кричали мужчина и женщина. Я пошел на голоса. За прибрежными кустами показалась серая, в заплатках палатка с провисшим хребтом. Возле телеги, позвякивая сбруей, паслась пара лошадей. Кричали в палатке. Оттуда неожиданно выскочила знакомая мне цыганка, и следом — рябой растрепанный цыган. В два прыжка он настиг, рванул за косу и опрокинул цыганку на спину. Монетка из ее косы искрой упала далеко в траву. Не выпуская косы, цыган выхватил из-за голенища плеть и с каким-то злорадным торжеством принялся стегать. Ременный хлыст то со свистом рассекал воздух, то вязко впивался в тело, вспарывая одежду. Цыганка, пряча лицо, уткнула голову в пыльные сапоги, обхватив их руками. Лошади, заслышав свист кнута, подняли головы, настороженно шевеля ушами, но тут же снова нагнулись к траве. — Не тронь! — крикнул я, вскипая. Цыган остановил руку на замахе, повернул ко мне злое лицо: в черной рамке волос — безумно выпученные глаза. — Не тронь, говорю! — А ты иди... Иди своей дорогой! — прохрипел он, тяжело дыша. Под расстегнутой рубахой ходила волосатая грудь.— Это наше, цыганское дело! Он пнул ногой цыганку и пошел, пьяно раскачиваясь, к лошадям. Я нагнулся над женщиной. Она вздрагивала всем телом, судорожно зажав в руке пучок травы, вырванной с корнем. Рядом лежало раздавленное сапогом яблоко. — Уходи! — злобно простонала она.— Не лезь! Она приподнялась и на руках уползла в черную дыру шатра. Оттуда на меня глядели большие, не по-детски серьезные глаза. На другой день я собрал, что у меня еще осталось из запасов съестного, и пошел к шатру. Но палатки там уже не было. В примятой траве что-то заблестело. Это была монетка с изображением румынского короля. Я положил ее в карман и побрел обратно. На мокром лугу ярко зеленела свежая колея... Погода скоро испортилась. Тревожно зашумел сад, и ветер, подхватывая сорванные листья, понес их над верхушками деревьев, над крышами домов, покатил по деревенским улицам и проселкам. Я уложил свои вещи и уехал в город. Той же зимой я собрался по делам в один сельский район. Ехал я рейсовым автобусом. Пассажиров было немного, большинство — местные колхозники, ездившие в город по своим хозяйственным нуждам. Велись обычные дорожные разговоры про самое разное. А за окном бушевала вьюга. Встречный снег стучал и царапался в окна, намерзал на стеклах толстым рыхлым слоем. На остановках, когда кто выходил или садился, в открытую дверь врывался вихрь, и по автобусу носились, тускло поблескивая, одинокие снежинки. На одной из остановок в дверь вошла цыганка с ребенком. Она куталась в большую шаль, залепленную снегом. Мальчишка лет пяти в женских резиновых ботах, в картузе и дырявом свитере, под которым виднелось еще какое-то тряпье, зябко ежился и все время пританцовывал. Все обернулись, разглядывая вошедших. Мне тотчас вспомнилась недавняя встреча на осеннем лугу. Нет, это была не та цыганка. Незнакомое лицо сдавлено резкими провалами щек, глаза глубоко запали и испуганно глядели из-под спущенного платка. Она чем-то напоминала птицу, отбившуюся от стаи. — Куда же ты в таку заметь? — спросил кто-то позади меня. — Да куда-нибудь...— ответила вошедшая низким голосом. — Мальчонка-то смерз. Вон как дрожит,— покачала головой сердобольная старушка, сидевшая впереди с узлом.— Иди-ка сюда, внучек. Тут печка есть под ногами. Иди погрейся. Мальчик несмело пробрался между рядов и сел рядом со старушкой. — Муж-то где? — снова спросила моя соседка. — А не знаю. Уехал... — Бросил, что ли? — Уехал... — Ну, а сейчас-то ты куда? — Где примут, там и останусь. — Делать-то что будешь? На что жить? Так тебя никто кормить не станет. Гадать небось думаешь? — Попрошусь на конюшню. Я лошадей люблю. — До весны, значит? — Зачем до весны? Совсем хочу. Надоело. Кочевать надоело, с голода помрешь. Побираться надоело. Все тебя гонят, насмехаются. А чем я виновата? Только что черная? У меня вот мальчонка. — Это правда,— согласилась старушка.— Какая уж там жисть! — Она развязала узелок, вытащила обсыпанную маком баранку и протянула ее мальчику. — К нам бы можно,— будто про себя сказала она нараспев.— Это вот сейчас Курносовка будет, потом Покровское, а там и сходить. У нас небось колхоз не из бедных. — Чужую беду руками разведу! Старая, а не соображаешь,— сердито перебила ее моя соседка, еще довольно молодая женщина, туго перетянутая толстой шерстяной шалью.— К вам-то еще четыре версты переть. Да еще ваш председатель что скажет?.. Эх ты, горе луковое! — смахнула она набежавшую слезу.— Что тут будешь делать!.. Со мной сойдешь! Поживешь! А там посмотрим. И сердито, будто решила, наконец, мучивший ее вопрос, она сказала: — Втроем кормимся, как-нибудь и впятером проживем! На следующей остановке они сошли. Женщина сунула цыганке свой узел и подхватила мальчонку на руки. Ветер рванул им навстречу, сыпнул в лицо колючим снегом. Автобус рявкнул выхлопной трубой, покатил по дороге, и они тотчас скрылись в снежной кутерьме.
На главную |