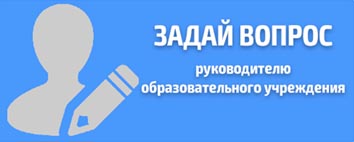|
|
НА РАССВЕТЕ Всю неделю низко висело отяжелевшее небо. Ветер кружил и пересыпал снег, шершавым языком зализывал санные пути и тропки, ровнял овраги, а за хатами и амбарами выметывал диковинными полукружьями сугробы с острыми гребнями. Этой ночью вдруг прояснилось, и над Воробьевкой объявился молодой, чистенький месяц. Пока мело и вьюжило, он успел за тучами высветиться широким серпом, и от колодезных журавлей, перепутанных и запорошенных вишняков и жердяных изгородей на снег проронились робкие, нежные тени. Воробьевка длинно, нестройно, перебиваясь пустырями, тянулась по крутому берегу речки, как раз по ходу месяца, и он за долгое раздумчивое свое шествие в ночи успел оглядеть каждое подворье, пересчитать стожки на огородах, выслушать всех воробьевских шариков и тузиков, разноголосо и тоскливо обрехивавших его из глубины заснеженных дворов. Часу в третьем ночи, налившись голубоватым предутренним накалом, месяц повис над Алениной хатой, что сразу за овражком зачинала новый порядок Воробьевки, именовавшийся Березовскими выселками. Берез, однако, здесь никаких не росло, сама же Аленина хата в нахлобученной по самые оконца соломенной папахе, толсто укрытая снегом, одиноко маячила посередине разгороженной усадьбы. Сквозь морозную ботву на стеклах месяц заглянул в кухоньку, осветил горбатый сундук под самым окошком, на котором, лишь недавно забывшись, Алена беспокойно переживала во сне нахлынувшие на нее события. Вчера сына ее Севку выбрали председателем здешнего колхоза. Весь вечер, буравя метельный снег, тарахтел по Воробьевке трактор с двумя санными будками, собирал и свозил людей в правление. Алена тоже была на собрании, народу, несмотря на завируху, набилось полно, она сидела ни жива ни мертва, плохо понимая, что говорили и кричали, и все было как на суду. Как на суду, пытали Севку про всю его жизнь, спрашивали, с чем пришел, как думает повести дело. Иные кричали против: мол, хрен редьки не слаще; иные вступались: дескать, ежели свой, так оно, может, и лучше будет. Севка сидел за красным столом, между старым председателем Фролом Палычем и каким-то начальником из района, сидел насупясь, кусая губы, был бледен лицом, и, когда встречался с глазами матери, сердце у нее холодело от неприятного страха за сына. Севка потом и сам говорил с трибуны речь. Алена тянула шею, слушала, но мыслями не могла поспеть за Севкиными словами, потому что неотступно думала: «Как это все будет?» Вернувшись с собрания, Алена не могла уснуть, долго ворочалась на сундуке и под конец сморилась запоздалым, тяжелым сном. Ей почему-то снилось, будто провожала мужа Степана на фронт. Привиделось все так, как было когда-то на самом деле, со всеми подробностями, какие теперь и наяву не всегда приходили на память. Как Степан, суровый и молчаливый, в чистой исподней рубахе, морщась от цигарки, старательно и пристально обвертывал новой портянкой ногу, положенную на колено другой ноги, как расправлял складки рядна и обхаживал ступню ладонью, а руки были темные от застарелого мазута, с белесыми волосками на кургузых, негнучих пальцах. Перед севом или жатвой Степан, бывало, собираясь в свою бригаду, всегда требовал чистую рубаху и сам выкраивал из мешка, который поновее, свежие портянки, и в тот день, снаряжаясь на войну, он обувался так же неспешно и рачительно, будто шел на пашню перед страдой. И еще привиделось, как на машинке перешивала Степану наволочку под заплечную сумку. У нее не нашлось белых ниток, она строчила черными, понимала, что нехорошо это, и сквозь застилавшие слезы видела, как по белому полотну ложилась черная кривая стежка... И как потом Степан посадил на колени детишек — двух на правое, двух на левое — и говорил ей, чтоб ничего не берегла, если обернется круто, чтоб продала костюм его серый, который дали в премию, и часы именные, и велосипед, и лес, что берегли на новый сруб... И даже то привиделось, как грохнулась она в Степановы сапоги и заголосила впричет, и все слова припомнились до единого: «Что же ты, Степушка, говоришь такое, будто и вертаться не собираешься? Да нешто мы ироды, чтоб продавать костюм, ни разу не одеванный, выжить тебя из собственной хаты...» Уходя, Степан в последний раз оглядел двор, ошкуренные лесины под плетнем и старую, осевшую набок хату. Одно было непонятно: и пиджак, и мешок белый за плечами были Степановы, как тогда, а лицом и голосом вроде бы Севка. И сказал он ей непонятное: «Полно убиваться-то, не на войну иду. Председателем выбрали». От этого сна Алена полоумно подскочила на сундуке, порывисто и шумно дыша, будто вынырнула из омута. Освоившись с темнотой, Алена разглядела на стене у сенной двери пальто и сапоги под вешалкой. Все это была Севкина одежда, и, стало быть, никакой войны не было, а сам Севка мирно посапывал в горнице. В сенях проснулись и тихо загомонили гуси. Старая гусыня, чуя близкую весну, дробно стукотела в кухонную дверь, выщипывая войлочную обивку. Негромкий семейный гомонок птицы окончательно успокоил Алену, и она, перекрестив рот щепотью, опять прилегла на сундуке. — Ох ты, матерь божья! Привидится же такое... Она уже не смогла больше уснуть и тихо лежала, перематывая, как пряжу с одного клубка на другой, бесконечные свои мысли,— начала со вчерашнего собрания, а незаметно перетряхнула все свое житье-бытье. Месяц наискосок переместился из одного кружка оконца в другой, высветил из темноты осколок зеркальца. Зеркальце это было вмазано в печь еще в давние времена, когда Алена ходила молодухой и, бывало, возясь с горшками и ухватами, нет-нет да и посмотрится в осколок, чтобы держать себя перед мужем в опрятности. Была она в свои годы не последней девкой. Правда, с лица не очень приметная, но зато брала свое, когда не сидела сложа руки. Выйдет в круг — в плясе себя не помнила, ноги чуть ли не словами выговаривали «Чеботуху». Заведет частушку, голос — пей, не напьешься, ключ родниковый. А еще коса — ни у кого и на погляд такой не было: через всю спину коса ржаным перевяслом. В работе и того всех пуще: мешок одной рукой за угол, другой за устье, а из-под низу коленом поддаст — и уже в телеге мешок как есть в шесть пудиков. Что стог свершить, что косой прогон вымахать — не столько работа казалась мудреной, сколь легка была девка на руку. Пока раздумывали нерасторопные воробьевские ухажеры, сама себе выбрала в поле жениха, приголубила эмтээсовского тракториста, тихого, застенчивого парня, безродного и пришлого откуда-то с донских низов. Жили жадно, как и работали. За пять супружеских лет четверых ребятишек народили. Бывало, соседка Марья разжалостливится: ты, мол, Ленка, хоть годок передохни, поостынь малость, себя побереги, или времени больше не будет? А она раз за разом не только не портилась лицом и всем прочим, а еще пуще наливалась здоровой бабьей красой. Муж попался сговорчивый, работящий, бригада его была первой по району. Что ни сезон — премия, то деньгами, то часами, корову справили, всякую птицу, припасли лесу на новый дом. Как-то под Октябрьские Степан одним заходом себе велосипед купил, ей — швейную машину. Собирались жить прочно, на твердом корню. И вдруг, как обухом по голове — война... Алена припомнила, как уходили на фронт воробьевские парни и мужики и как без них затаилась, притихла и обезлюдела Воробьевка. Будто стала ниже хатами, словно вросла в землю. А потом осенними забурьяненными дорогами накатил враг, вконец затоптал еще теплившиеся угольки привычной колхозной жизни. Все сразу оборвалось. Отбросил враг Воробьевку к самой черной нужде, к лучине, к знахарям и повитухам. Поснимала Алена со стены Степановы грамоты, скрутила в трубочку, обвязала тесемкой и запечатала в кувшине вощиной. Среди ночи закопала кувшин у огородной межи. Но кто-то донес, что муж ходил в ударниках, и начали выматывать душу: сначала корову отняли, потом забрали сено, в сене нашли велосипед со швейной машиной, а потом свезли лес на блиндажи да еще разобрали рубленую амбарушку. Не сдавалась Алена, отбивалась от нужды, как могла, по окрестным деревням выменивала на щепоть соли, на мучной обсевок последнее барахлишко. Только костюм Степанов остался на дне опустевшего сундука. Под конец пошла с сумкою молить людей, но костюма не тронула. Берегла, как затаенную свою надежду. Случалось, бредет безлюдным, стылым полем с разными кусочками в сумке, услышит самолет и скорее не глазами, а сердцем поймет, что свой. Будто со дна темного колодца, долго глядит на серебристый крестик. Уж и самолет скроется за далью, и гул его истает в морозной тишине, а она все глядит вослед, переполненная тоской. Перед весной, по последним метелям, пришли наконец наши. Пришли и прошли, не задерживаясь, шляхом дальше, на запад. На другой день Алена обстригла и выкупала ребятишек, выскребла ножом половицы, отбила в мерзлой земле кувшин с грамотами и украсила ими горницу. Потом с ведром и тряпкой побежала мыть полы и окна в захламленном немцами сельсовете. Припомнилось, как опять собирали колхоз: снесли припрятанные плуги и боронки, хомуты и еще кое-какой инвентаришко. Из живности в общем хозяйстве оказались две нестроевые лошади, оставленные проходившим армейским обозом, да еще председатель — солдат на деревянной ноге. По весне вся Воробьевка высыпала в поле. Первый раз за эти годы собрались вместе всей деревней. Вышли с детишками, ветхие старики и те выползли. Стаскивали с пашни сухой, застарелый бурьян, жгли большие жаркие костры. Люди хмелели от сквозного вешнего ветра, от крепкого запаха талой земли, но еще больше от ощущения пришедшей вольности. Война ушла куда-то далеко, лишь иногда кто-нибудь из детишек опасливо насторожится, приняв за вражьи самолеты тяжелые клинья гусей, низко тянувшие у горизонта. Безногий председатель Усов в кургузой шинельке, увязая в оттаявшей земле деревяшкой, размечал загонки. У кого уцелели коровы, пахали на коровах. Алена сладила себе из приводного ремня лямку, подбила ее, как хомут, куском потника и, туго подвязав рушником живот, стала в плуг за коренного. Справа и слева, по четыре с каждой стороны, впряглись бескоровые солдатки. Рассыпавшись нестройным полукругом, чтобы не мешать друг дружке, бабы налегли на постромки. Лемех туго врезался в слежалую землю, медленно, неровно змеился перевернутый синеватый пласт. «П-шол, п-шол, п-шо-о-ол! — подбадривал Усов, припрыгивая сбоку.— Еще чуток, бабоньки, еще нажмем, родненькие!» Бабы пьяно раскачивались, с вытянутыми до земли руками, в упрямом молчании переставляли босые ноги. В конце гона они останавливались, терли намученные плечи, измятые лямками груди, но никто не уходил из упряжки, не упрекал Усова за его просящее понукание. Может, все опять и вернулось бы к Алене — бабу трудно сломать, пуще лыка она в жизни,— если б только Степан возвратился домой живым. Тем и держалась она, что ждала мужа. Но пришла бумага — и все впереди вдруг показалось ей непроходимой топью, и не видела она края той топи, и не прошла бы, не сдвинулась с места, если б не четверо ребятишек, из которых самому старшему, Севке, было всего девять годков. Тяжело приходила в себя овдовевшая солдатка, а оглядевшись, опять потянулась на люди. Она и без того уже была не той, прежней Аленкой, какой ходила при Степане, а тут сразу как-то сникла, обвяла, как надрубленная лесина. Все ушло, осталось самое необходимое, чтобы тянуть, кормить четыре рта: хребет да жилы. Да еще коса осталась, уже не ржаная, а пеньковая, все больше отдававшая холодной мертвяной сизостью. И вот это зеркальце... Год от года мазала и белила Алена печь, обрастало зеркальце глиной и побелкой, уцелел от него глазок не более пятака, и теперь, отражая свет месяца, глядело оно на Алену печальным голубоватым глазком из далеких времен ее молодости. Ободренные тишиной ночи, заливчато пиликали сверчки в лунном полусвете кухни. Но Алена, думая о своем, почти совсем их не слышала. Привычное, обжитое трюканье сверчков отдавалось в ушах не задевающим внимание звоном, как извечный дух старой хаты, в которой она прожила во вдовьих трудах и заботах почти четверть века. Последние десять лет Алена жила с младшими детьми. Потом разлетелись и они. Осталась Алена одна в хате, как старая картофелина в лунке. Еще и теперь под руку попадаются то растрепанный, замусоленный пальцами задачник, то ссохшийся недомерок — башмачишко, а уже двое младших служат в армии, а дочь Настя замужем на разъезде. Севка же ушел из дому еще подростком. Как занеладилось в те годы в колхозе, так и ушел. Хотел было пойти на курсы трактористов, по отцовской специальности, но за малолетством не взяли. Тогда он мотнул в город, поначалу пристроился у дядьки, плотничал возле него негласно. Дядька денег Севке не давал, а держал его при себе за харчи и одежку. Алена и этому была рада, но Севка засвоевольничал, отписал, что не хочет жить, как при старом режиме, и ушел в ФЗО. Школа эта оказалась и того лучше — на всем готовом. После ФЗО определился в техникум. Днем на производстве, а вечером учился. Последние годы работал прорабом на разных стройках, стал присылать домой деньги. Радовалась Алена: выбился-таки малый в люди! И вот тебе на — бросил все, прикатил в Воробьевку. Да еще полез в председатели, в самое ненадежное и колготное дело. В сенях на насесте захлопал петух, пустил сонное коленце. Алена сунула ноги в валенки, накинула на шею юбку и опять, остановленная думами, долго сидела так, с юбкой на шее, уронив руки на голые худые колени. Последнее время, томимая одиночеством, она подумывала о том, чтобы продать хату и перебраться к дочери на разъезд. Севку она считала отрезанным ломтем. Младшие, когда отслужатся, наверное, тоже не приживутся в Воробьевке. Осталась Настя. Алена и порешила переехать к ней по весне, тем паче, что к этому сроку Настя выходит в декрет. Алена сидела на сундуке, соображая все это, и ее порой заливала теплая волна радости оттого, что Севка теперь будет с нею, но этот радостный наплыв проходил, Аленино лицо опять становилось тревожным и озабоченным, как только она начинала думать о вчерашнем собрании. Алена оделась, растопила печь, пристроила на полу чугунки и сунула в угли утюг. Потом засветила керосиновую лампочку, осторожно, выбирая половицы, чтоб не пробудить Севку, прошла в горницу и присела перед Севкиным чемоданом. Из стопки белья, разостланного поверх каких-то книжек, она выбрала рубашку и бросила ее на стол. Водя по рубахе утюгом, Алена поглядывала на Севку. Она глядела на него озабоченно, вопрошающе, будто оценивала сына. Севка спал на боку, подобрав коленки. Он отрывисто всхрапывал, вылезшее из наволочки рыжее петушиное перышко шевелилось под носом. Во всем облике сына было еще много от того, прежнего Севки, каким он еще жил дома, и в глазах Алены, оглядывавшей его некрупное тело под стареньким байковым одеялом, теплилась тихая, грустная ласковость. Ей казалось, что вот сейчас он проснется, зажмурится от свету и, как бывало прежде, первым делом спросит про сапоги, которые частенько обувал в школу младшенький, Колька. Она силилась представить сына в председательском кабинете, за столом Фрола Палыча. Как Севка бумаги подписывает, как дует на круглую резиновую печатку, как ругается на бригадира и стучит по столу. Но Севка никак не подходил ко всему этому. Всякий раз в ее мыслях Севку заслонял собой Фрол Палыч, неприступно грозный и дюжий, под которым «победа» кособочилась, когда он садился за руль, а уж если громыхнет в сердцах кулаком по столу, в соседней бухгалтерии останавливались ходики... «Кремень человек, а ведь тоже не удержался,— глядя на Севку, подумала Алена о Фроле Палыче.— Мой уже восьмой по счету. Ох ты господи!» Алена выгладила рубаху, повесила на спинку кровати. Постояла с утюгом в опущенной руке, прикидывая, что бы еще такое сделать. Сегодня Севка в первый раз пойдет в контору как новый председатель, и надо бы, чтоб все на Севке было хорошо и ладно. Расправляя под утюгом складки, нащупала что-то во внутреннем кармане, мешавшее гладить. Алена отстегнула булавку и вынула красную книжечку, обернутую прозрачной слюдой. На ее щеках из-под старческой желтизны пробился девичий румянец радостного и горделивого смущения. Она бережно положила книжечку на край стола и взглянула на Севку. Севка не спал. — Вынула я, чтоб утюгом не попортить,— виновато забормотала Алена.— Я обратно положу... — Ничего, мама. Тебе можно,— сказал Севка. — Полежи еще, сынок. Только доярки на утреннюю прошли. Севка достал из-под подушки пачку папирос, закурил, перевернулся на спину, закинул руки за голову, задумался, разглядывая желтый подтек на потолке. — Сева, может, отцов костюм достать? — несмело сказала Алена, разглаживая пиджак. — Не надо, мама. Пусть лежит. — Сколько ему лежать-то? — Алена отвернулась.— Того гляди моль погрызет. Я уж и так табаком да донником пересыпаю. А только про кого теперь беречь? Надевай, чего уж... — Николай скоро вернется из армии, подари ему,— сказал Севка.— У него нету. — Ну, смотри... А то ни разу не одеванный. Вот и одел бы в память об отце. День-то какой! В первый раз ведь идешь. Народ на тебя глядеть будет... И я бы посмотрела... Ты совсем как Степан стал. — Ни к чему мне рядиться,— сказал Севка.— Не на смотрины иду. Вон, гляжу, крыша протекла. Перекрыть бы... — Да теперь уж до новины. Теперь и соломы во всей Воробьевке не сыщешь. На кухне зашипели угли, Алена всплеснула руками,— батюшки, курица перекипит! — зашлепала валенками к печке. В кухне столкнулась с соседкой Марьей, полной, круглолицей, в суконной шали поверх ситцевой блузки, с бордовыми от мороза, оголенными по локоть руками. — Здравствуй, соседушка! На дворе хорошо-то как! Морозно! Чисто! — веселым шепотом загомонила Марья.— Как раз как Фрола сковырнули, так и погода стала. К добру, не иначе! — Дай-то бог! — Спит еще? — округляя глаза на дверь в горницу, спросила Марья. — Проснулся. — С тебя, девка, магарыч. — С чего это? — Да как же! Теперь ты председательша. — Какая я председательша! — Алена зарделась и, пряча смущение, подперла щеку кулаком.— Молодой больно. И не знаю, как это он будет... — Ничего, Ленка, ничего,— горячо зашептала Марья,— не бойся, выладняется. Слушала я его вчера. Видно, что от души парень берется. — Правда, Марья, правда! От души... Сам надумал. Какую должность в городе бросил... Недавно квартиру дали. Печку не топить, за водой не бегать, все как есть приспособлено. Тоже оставил. А только не знаю, как он тут будет... Не грядка с луком. Одной земли сколько!.. Машины. С людьми надо ладить. Сама знаешь, народ-то у нас всякий! Ох, боюсь я, Марья! Не шутейное это дело! Пособить бы ему. — Про это и говорить нечего,— кивнула Марья.— Что же мы — сами себе лиходеи? Не понимаем? Пособим! Жить в этой хате останетесь? — А где ж еще? — Я б в Фролов дом переехала. Фрол Палыч все равно здесь небось не останется. Да и дом-то не его, колхоз строил. — Не знаю... Нешто можно так-то? Против людей совестно. Не успели выбрать — сразу в дом. Сева говорил, свою перекрывать будем. — Ой, пойду, девка! Пришла на минуту, а стою-то сколь! Настя-то как? Ладит с мужем? Заговорили про Настю. — Живут ничего, муж хороший, старательный, недавно дорожным мастером назначили. Настя кассиршей было устроилась, да вот рожать собралась, дома теперь. Хотела к ним перебраться. Да теперь не придется. А то ведь корову им отдала, сама знаешь, тут не прокормишь, а там обочь дороги малость накашивают... Как она теперь будет с коровой, сама тяжелая... Ничего живут... — Побегу! Кланяйся Всеволоду-то Степанычу. Скажи, пусть не сумлевается. Марья в который раз уже запахивала на груди концы шали, но находились новые и новые разговоры. Наконец Марья убежала, а вслед в кухню пришлепал босиком Севка за сапогами. — С кем это ты, мать? — Марья за солью приходила. Кланялась тебе. Носки, Севка, в печурке. Тепленькие. Алена остановилась у дверного косяка, спрятала руки под передник и молча наблюдала, как Севка обувался. Сунув ногу в голенище, он с кряком надел сапог, встал, промялся, пошевелил носком, укладывая ногу половчее, и принялся за вторую. Алена смотрела на это мужицкое дело повзрослевшего сына со вниманием и грустным удовольствием, видя в Севке прежнюю отцовскую обстоятельность. Обувшись, Севка стащил с себя майку, вышел во двор и вернулся до пояса мокрый и красный, сыпучий, морозный снег набился в его растрепанные волосы. — Хор-рошо-о! — крикнул Севка, ловя брошенный Аленой льняной чистый рушник.— На лыжах у вас тут бегают? — В школе ребятишки балуются,— сказала Алена. — Обязательно заведу лыжи. — Будет тебе когда... — Найду! Севка попросил плеснуть кипятку в пластмассовый стаканчик, сел в горнице к столу бриться. Алена, возясь с завтраком, размышляла над Севкиной ребячьей беспечностью — «вот лыжи еще на уме» — и, выждав момент, спросила из кухни с тревогой: — Что ж ты, Сева, сам-то как?.. Не боишься? — Чего бояться надо? — откликнулся Севка. — Да вот председателем идешь... Севка долго не отвечал, и Алена ждала, прислушиваясь к тому, что делалось в горнице. Не дождавшись, тихо подошла к двери, прислонилась седым виском к притолоке. Севка скоблил безопасной бритвой щеку и одним глазом сердито, напряженно косился в круглое зеркальце, приставленное к стаканчику. Не отвечал потому ли, что не вовремя Алена подоспела с вопросом,— как раз языком подпирал изнутри щеку, чтоб ладнее было бриться, а может, думал, что сказать. Заметив мать, Севка посмотрел на нее остро и цепко, но тут же бросил на стол бритву и распахнулся широкой, простодушной улыбкой. — Знаешь, мама... Если откровенно — малость боязно... — Тогда как же ты... — А все равно пойду. Севка сердито закрутил помазком в мыльнице, но тут же, отодвинув прибор, хлопнул себя по коленкам. — Вот ты говоришь — в городе на хорошем месте был. Что ж, был... Но вспомню, что вы тут наперекосяк живете,— веришь, не могу! Работа из рук валится. Раз десять ходил в обком, просил, чтобы сюда направили. Мне бы, мать, за этот лежачий камень получше вцепиться. Вагу под него подсунуть. Да народ на это дело скликнуть. Тогда-то уж мы его перевернем мокрым местом на солнышко! Алена сочувственно смотрела на сына,— лицо было знакомо до мелочей, но за мальчишеской быковатостью проступало что-то новое, придававшее Севке незнакомую жестковатую суровость. — Так-то оно так... Да только будут ли тебя, сынок, бояться? — Это зачем? — А то как же? Без этого нельзя. Какая же из тебя власть, ежели бояться не будут? Севка расхохотался, развел руками: — Да разве я княжить сюда приехал? Разве Воробьевка вотчина моя? Эх, мать, все перепуталось в твоей головушке. Родина моя здесь, хата, ты здесь, дружки-товарищи, с которыми еще по садам лазили. Завяжи глаза — в каждую хату ход знаю... Зачем же чтоб боялись меня? — А затем, что Фрол Палыч на что строг был, а тоже не удержался. — Фрол Палыч! Привыкла ты: если по столу кулаком стучит, так тебе и власть. Негоже это. Давай выпрямляйся. Севка плеснул горячей воды на конец полотенца, вытер лицо, подошел к матери, обнял ее за плечи. — Ты ведь теперь председательша! Раздайся, народ, Алена Дмитриевна идет! Так-то! — Подь ты к лешему! — отстраняясь, замахала руками Алена. Ей было радостно, что Севка с ней так шутит. — Хочешь новое корыто? — смеялся Севка.— Старое, поди, совсем уж развалилось? — Цело, цело корыто-то! — отмахивалась Алена. — Эх, мать, мать! Вот, гляжу я, в святом углу новые угодники прибавились. Это кто же вон тот, который справа? — Иоанном Рыльским знающие люди зовут. — Да... Видишь, как оно все поворачивается... А по-нашему знаешь как: бог-то бог, да сам не будь плох! Держи хвост пистолетом! — А ты бы, Сева, не смеялся. Нехорошо это. — Я и не смеюсь. Тут смех невеселый... Я ведь знаю, что тебя тревожит. Хочешь, скажу? — Да чего уж... Севка подвел мать к лавке, бережно усадил, сел рядом. — На кой ляд, думаешь ты, лезу я в это дело? Не один голову свихнул... Так ведь? — Разное думала,— смутилась Алена.— Вот гляжу я на тебя, сынок, и радуюсь: хорошо, что приехал, ласковый, поговорить об чем... Одна ведь и осталась... А подумаю, как ты на себя все это взвалишь... Молодой, доверчивый... И провести могут... Разве я тебе худа желаю? В городе оно понадежнее... — По-разному и в городе живут,— сказал Севка. — Ох, не скажи, Сева! Против Воробьевки, наверно, нигде хуже и колхоза нет. — А почему, мать, как думаешь? — Ох, не знаю, сынок, не знаю... — Нет, в самом деле? — Да ведь откуда хорошему быть-то? Тракторами бьют-бьют землю, а чтоб ей чем-нибудь пособить — навозу или каких удобрений,— нету хозяина. Одно слово — сиротой растут хлеба, по пустой земле. Сева, милый, разве это хорошо? И государству обман, и нам. А ведь земля-то у нас какая, сам знаешь. Покойника хоронят — до глины не докапываются, так в черную и засыпают. Нашей ли земле не родить, если с нею-то по-хорошему? Севка закурил и, пуская под ноги дым, подбодрил: — Давай, давай, мать, выкладывай. Тебя не послушать — так кого же еще? — Да что слушать-то? Я-то теперь одна. Мне и этого, что дадут, хватит. А когда вот четверо было — покрутись! Одних ботинок четыре пары, да пальтишек, да штанов, да рубах. Прорву всего надобно. А вы, проклятущие,— как бес на вас ездит,— по плетням да по грязи, в месяц все изорвете. А откудова, скажи, у меня деньги такие? Алена поднялась со скамьи, подперла бока кулаками, расставив ноги; сухое, заветренное лицо сделалось по-бабьи жестким. Незаметно для себя она все больше распалялась и распалялась и уже не говорила, а выкрикивала, вздрагивая большим, выпуклым животом, тряся оборками передника. — Скажи, не правда, что ли? Сам знаешь, как было. Тяпаешь-тяпаешь в поле, да и думки возьмут: «Стой, девка,— Кольке с Настькой в школу скоро идти, хоть по ботинкам купить-то, босые ведь. Аванс будет или нет — жди его». Схватишь пару куриц — да на станцию к поездам. Бежишь, а сама озираешься, чтобы Фрол Палыч не перелучил, а то матюков на горб натолкает: почему, мол, не в поле? Я ли, Сева, сынок, не работала? Бывало, где мужики, там и я... Пока Алена говорила, Севка, сжав потухший окурок в зубах, закинув за спину руки, как был — в майке, ходил взад-вперед по горнице, крепко ставя ноги и упрямо, по-бычьи нагнув голову. Рыжим бурьяном топорщился непричесанный, мокрый со снегу чуб, отчего и сам Севка казался колючим. На его обтянутых, только что выбритых скулах ходили зубчатые желваки. Алена, выкричавшись, вдруг обмякла, притихла, будто жарко сгоревший сноп соломы. Она как-то виновато посмотрела на Севку повлажневшими глазами, взяла со стола пластмассовый стаканчик и ушла на кухню. Севка остановился перед окном, засунул руки в карманы галифе, уставился в рассветную синеву. За окном тягуче визжали сани, фыркала лошадь. Чей-то озябший голос нетерпеливо понукал: «Но-о! Спотыкайся мне!» Воробьевка пробуждалась. — Садись, Сева, завтракать,— сказала Алена. Она накрыла на стол. Принесла отваренную курицу, миску с солеными огурцами, на середине стола поставила большую глиняную черепушку с густо парившей картошкой. Озабоченно оглядев стол и что-то вспомнив, Алена полезла в подпол, достала кувшин с квасом и, обтерев горлышко ладонью, поставила на стол. За синеющим окном послышался тяжелый скрип шагов. В сенях заметались переполошенные куры, и в хату, пригибаясь и курясь холодным воздухом, ввалился Фрол Палыч. Постучав у порога валенками и сдернув с головы кожаную шапку, подбитую колючим инеем, он, ни к кому не обращаясь, спросил: «Дома?» — и прямо в полушубке вошел в горницу. Тяжелое, задубелое лицо было багровым с мороза, резко оттенился седой ежик на голове. — Здоров, Севк,— скорее не словами, а сиплым, глубоким выдохом сказал он и подвинул к столу табуретку. — Здравствуйте, Фрол Палыч, завтракать с нами. — Разделись бы,— попросила Алена с почтительной робостью. Фрол Палыч ни разу у них не бывал раньше и теперь в ее маленькой хате, в домашней близости, казался еще больше и грузнее того, каким она видела его обычно в конторе и на колхозном подворье.— У нас жарко, батюшка. Печь топлена. Фрол Палыч досадливо отмахнулся, отодвинул миску с огурцами и положил на край стола локоть. — Идешь? — спросил он. — Позавтракаем и пойдем,— сказал Севка.— Успеем. Скинь полушубок. — Так...— выдохнул Фрол Палыч, оставив без внимания слова насчет полушубка. Мигая мокрыми, оттаявшими ресницами, он уставился на Севку. Он смотрел на него хмуро, исподлобья, и Алена, не понимая его намерений и почуяв в этом недоброе, угодливо поддвинула ему курицу. — Кушайте, Фрол Палыч,— сказала она, суетливо застилая рушником коленки его ватных брюк. Этот суровый, молчаливый человек, уже сваленный под корень воробьевцами на собрании, для Алены все еще был полон магической силы власти. Теперь она уже не могла себе представить, что власть у него отнята и передана ее сыну. Фрол Палыч сдернул с колен рушник и, не оборачиваясь, сказал Алене: — Дай-ка еще стакан. Он отвернул полу, вытащил поллитровку столичной, не торопясь, сосредоточенно вышиб пробку в кулак и поставил на стол. Севка, перестав есть, выжидающе глядел на старого председателя. Фрол Палыч налил два стакана, кивнул: — Тяни. Севка молча покачал головой. — Ты чего? — Фрол Палыч задержал свой стакан в руке. — Не могу, Фрол Палыч. — Но... Это ты брешешь... Со всякой сволочью не пей. А со мной — можешь... — Ты, Фрол Палыч, не подумай... — Хитришь? Фрол Палыч выпил и, плаксиво сморщившись, засопел, шумно выдыхая водочный дух, подтянул к себе курицу, с хрустом выкрутил из нее ножку. — Черт с тобой! Я на тебя не в обиде. Садись управляй,— сказал Фрол Палыч.— Я старый колхозный конь, и на меня еще хомут найдется... — Не в хомуте дело... — Не тут, так еще где-нибудь. А ты, жеребчик, пойди попробуй. — Ну что ж, попробую. — Быстро холку набьешь! — Да ты закуси, батюшка! — вмешалась Алена, робея от крутого разговора и поглядывая то на одного, то на другого.— Что ж так-то, не закусишь? Фрол Палыч, покосившись на Алену, взял Севкин стакан и выпил одним духом. Скривившись, долго ловил заскорузлыми пальцами скибку огурца в рассоле. — Ты думаешь, в легких дрожках бегать будешь? Дудки.— Он показал Севке кукиш с белыми огуречными семечками на прокуренном ногте. — Знаю, Фрол Палыч, в какие оглобли становлюсь. — Ну вот то-то... Зануздают тебя, голубчик, натянут вожжи, чтоб ни туда, ни сюда, да кнутом, кнутом, ежели станешь брыкаться. — Это кто же меня кнутом-то? — простодушно усмехнулся Севка. — Не маленький, сам знаешь. — Ну что ж,— кивнул Севка.— Могут и подбодрить, если постромки ослабнут. Тут ничего плохого нет. За вашим братом председателем того и гляди да гляди. А то иной так завезет... — Ну конечно! Не туда завез... Ты вот на все готовенькое идешь. Машины — полный комплект. Электростанцию пустил. Клуб построил. Контора с иголочки. Шесть лет хорош был. По президиумам сидел. А на седьмой не угодил. В Севкиных глазах стеклянным осколком сверкнул смешок. — Сначала, может, и правильно тебя в президиум сажали,— сказал он.— А потом уж и по инерции пошло. Тебе там, видно, очень понравилось. — Не напрашивался, сами сажали. — Нет, напрашивался! На фасад работал. Клуб с колоннами! Мебель мягкая! А народ из деревни бежит. Звеньевые в няньки в город подались. Брось, Фрол Палыч, пострадавшего разыгрывать. Скажи спасибо, что так обошлось. А могли и под суд закатать. — Это за что ж меня под суд? — А я скажу! — А ну, скажи! — Скажу! — Севка отбросил вилку, вышел из-за стола.— За то, что землю уродуешь. — Ну, ну, послушаем умника! — Ты в прошлом году семенную пшеницу в закуп сдавал? Сдавал! — Ну и что? Без семян не остались. — Не остались... А где ты их потом брал? Ты их в «Красном пахаре» на суперфосфат выменял! — Врешь! — Фрол Палыч грохнул кулаком по столу.— Врешь все! — Сейчас зайдем к агроному, сверимся. — И он врет! Суперфосфат весь по назначению внесли. Посмотри посевные акты. — По актам все правильно. А если по совести, то не сходится. Удобрения на сторону сбывали, а сеяли на пустой земле. Мне вчера агроном после собрания все выложил. На собрании сказать побоялся, а потом догнал на улице и рассказал. Ты его сам уговорил показать в актах, что удобрения вносились. Мол, про это никто не узнает. А если целый клин без семян останется, скандала не миновать. Запугал человека — он и подписал. — Не верь ему! Теперь начнут валить на серого. — Ладно, ему не верить — земле верю. Ты на Кобыльем клине по одиннадцать центнеров взял. А «Красный пахарь» на том же бугре, только по другому боку, по восемнадцати собрал. На твоем-то супере! — Это еще доказать надо...— Фрол Палыч взял со стола бутылку, покрутил в ней остаток.— Может, все-таки выпьешь? — сказал он хмуро. — Нет. И тебе не надо. Тебе еще дела сдавать. Севка перехватил было бутылку, но Фрол Палыч сердито вырвал ее и вылил в свой стакан. Выпив, он как-то сразу захмелел, сник головой, на коротком ежике бусинками проступила испарина. — Агроном — сволочь...— пьяно бормотал Фрол Палыч.— Тряпка... Гони ты его в шею... У, стервецы! — Ладно, разберемся.— Севка, уже одетый, тронул за плечо Фрола Палыча.— Пошли? Тот тяжело поднялся, обдав Севку запахом овчины из распаренного полушубка, нахлобучив шапку. — Мать, обедать не жди. Алена ткнулась в Севкину грудь, беззвучно заплакала. — Ну, ну, будет! Фрол Палыч и Севка вышли. Хлопнула сенная дверь, потом калитка... За окном послышались шаги: тяжелые, скрипучие — Фрола Палыча и мягкие, ровные — Севкины. — Ну, пошел! — проговорила Алена, остановившись посреди горницы.— Пошел Севушка... Дай-то ему бог. Она метнулась к окну, но окно было доверху схвачено толстым морозным инеем. Иней полыхал розовым рассветным огнем.
На главную |