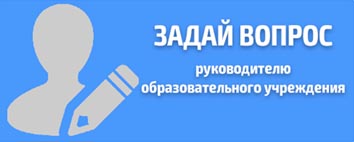|
|
МОСТ Памяти отца моего, Ивана Георгиевича Носова,— рядового котельщика первых пятилеток Мой отец был ударником. Он клепал мост через нашу речку. Мост получился красивый, весь в заклепках, и отцу дали путевку куда-то на один день. И еще премиальные. На них он купил себе майские брюки из белой рогожки, а мне бескозырку с золотыми якорями. Пока отец брился, мать погладила брюки и повесила на спинку кровати. — Смотри не зазелени,— сказала она и взлохматила ему чуб. Тогда отец еще не был лысый. Выходная рубашка пришлась в самый раз к брюкам. Она была тоже белая, с пристежным воротничком. Воротничок немного обтрепался на сгибе. Но мать сказала, что это совсем не заметно. И галстук. У отца был галстук. Серенький, крапинками. Отец не умел его завязывать. Чтобы не сползал узел, прикалывал из-под низу булавкой. Но булавка всегда высовывалась, а отец этого не видел. А мать видела и делала ему замечание. Отец сердился. И тогда он снимал галстук и совал в карман. День был сегодня торжественный, и мать советовала надеть галстук. — Жарко будет,— хмурился отец. — Надень, надень! Сегодня все будут с галстуками. Вот увидишь. Меня тоже собирали. Но обо мне нечего говорить. У меня ничего особенного не было. Все та же матроска. Я ее надевал и на Первое мая, и на Седьмое ноября, и на день рождения, и когда были у нас гости, и когда мы ходили в гости, и от этого она стала мала. Особенно рукава. Но мама их закатала выше локтя и сказала, что так даже лучше. Потом мать натерла мелом отцовы парусиновые туфли, и они стали как новенькие. — Ты пока их не надевай, а то я вчера вымыла полы,— сказала мать и выставила туфли за порог. — А папиросы? Чуть не забыл! — сказал отец и сел набивать папиросы. Получались большие, толстые папиросы. Он обрезал кончики ножницами, чтобы не торчал табак, и складывал в красивую коробку. Он говорил — никто не догадывается, что они самодельные, зато так дешевле. — Кажется, все...— сказала мать и повернула отца за плечи. Я тоже еще раз оглядел отца. Какой он стал красивый! Все на нем было белое, праздничное. Вот только руки в царапинах. И лицо загорелое. Особенно против белой рубашки. Это он так обгорел, когда клепал мост. Он все время работал на самом верху. А внизу была вода. Но он не привязывался. Зато колотки всегда привязывал к поясу. Чтоб не падали в воду. А нос так и вовсе облупился. — Постой,— сказала мать.— Дай хоть я нос ощиплю. Смотри, как шелушится! — Отстань! — рассердился отец. — Ну как хочешь. Ходи с таким. А так все было очень даже хорошо: и майские брюки из белой рогожки, и туфли, и все, все... — Ну ладно, идите,— сказала мать и посмотрела на меня.— Ах, да! Чуть не забыла! Возьмите-ка что-нибудь из еды. — Ну вот еще! Там же будет бесплатный завтрак,— сказал отец и показал талоны,— и обед, и ужин. — Кто его знает, что там будет,— сказала мать.— И потом — ты не один. Ребенок захочет есть. Она сунула отцу сверток, и в это время вошел дядя Федя, председатель завкома. Он дал мне маковку и сказал: — Ну, карапет, поехали! — А куда мы поедем? — спросил я. — Очень хорошо. Просто замечательно! — сказал дядя Федя и заулыбался. Он совсем плохо слышал, этот дядя Федя. Но делал вид, что слышит все-все. Он, как и отец, был раньше котельщиком. Но когда оглох от молотков, его поставили председателем завкома. Он почти ничего не слышал и всегда говорил, в ответ: «Очень хорошо. Просто замечательно!» И улыбался. Улыбался, чтобы не поняли, что не слышит. У наших ворот уже стоял грузовик. В кузове было полно. Все такие разодетые. От грузрвика так и пахло одеколоном. А на бортах красные лозунги, как на Первое мая. — Скорее, скорее! — кричали нам.— Еще надо за Кузьмичом заехать. А потом к Степке из кузнечного цеха. Ты не знаешь, где живет Степка? — А это что у тебя за сверток? Закусон? — Девки, а штаны-то! Штаны какие! — Накрахмаленные! — Штаны — дрыком! — Га-га-га! — Чего гогочете? Зафтюкали мужика. — Иван, полезай сюда. А мальца — в кабину. Мы заехали за Кузьмичом. Он оказался старым дедом. Кузьмич закидывал, закидывал ногу в кузов и никак не мог закинуть. И его тоже послали в кабину. Он посадил меня на колени, и я спросил: — Дедушка, а ты тоже ударник? — Плотник я. А так... шут их знает. Степку из кузнечного мы так и не нашли и поехали без Степки. Грузовик ревел, дребезжала фара, коленки у Кузьмича подпрыгивали и были как железные. Он сопел над ухом, и усы его пахли не то селедкой, не то водкой. Но зато я ехал в кабине! Первый раз за всю жизнь. А наверху играла гармошка, и все громко пели:
Мы красна кавалерия, и про нас Мы линники речистые ведут рассказ...
Что такое «ипронас» и что такое «линники», я не знал, но песня была такая, что даже Кузьмич притопывал подошвой. Потом пели: «Эх, яблочко! Куды котисси!..» — и кто-то плясал в кузове. Люди останавливались, махали нам руками и что-то кричали. Лошади задирали морды и храпели. Мужики соскакивали с телег и хватались за уздечки. А по бокам дороги, под насыпью, синела вода, и в ней плавали зеленые ракиты и белые облака. А может, даже не облака, а черемуха. Разве все разглядишь, когда грузовик так несется по дороге, аж дребезжит фара... Когда мчались через новый мост, он гулко загрохотал над головами, и все закричали «ура». — Р-а-а-а! — ответил мост. — Ура-а-а! — еще громче закричали в кузове. — Ах, язвитвоюдушувтрибаранийрог! — задребезжал Кузьмич. — Чего, дедушка? — Погоди, говорю, внучек. Дай высморкаться.— И Кузьмич полез рукой под меня доставать платок. За мостом свернули в лес, прыгали, прыгали по корням и остановились. — Стой, ребята, не разбегайтесь! — крикнул дядя Федя. Принесли красный стол с графином. Поставили под сосной. Дядя Федя что-то говорил. Все хлопали. Меня обступили со всех сторон, и было жарко. Гляжу вверх — кусочек неба и ветка. Гляжу вперед — Кузьмичовы штаны в белую полоску. А дядя Федя все говорит и говорит. — Как черт, чешет! Подковался в завкоме! — гудит кто-то сзади. — А теперь, ребята, занимай палатки! — крикнул под конец дядя Федя.— На весь день. Нам досталась самая крайняя. Отцу, Кузьмичу и мне.. Вверху шумели на ветру сосны. То разойдутся, то опять обнимутся. А внизу тишина. Падали шишки, стучали по брезенту, как по барабану. Синичка тинькала. Елками пахло. Где-то кричал дядя Федя: — Петрищев, занимай девятую с Апанасенком! А ты чего носишься? Ты с кем? Нашел себе пару? Отец повалился на койку, закинул руки под голову. Кузьмич постучал ногтем по парусине. Я приоткрыл коробку на столике — шашки! Отец достал папиросы и глянул на Кузьмича. Кузьмич посмотрел на отца. Отец посмотрел и улыбнулся. Кузьмич тоже расправил усы. — Красота! — сказал отец и хлопнул Кузьмича по коленке. — Да вот и я говорю, язвитвоюдушувтрибаранийрог, дожил... Кузьмич засопел, полез за носовым платком. — У тебя чего там, в свертке, колбаска? — сказал он, часто-часто моргая глазами.— А то у меня есть по махонькой... Но под брезент кто-то просунул голову и крикнул: — Выходи завтракать! Завтракали под навесом, за одним большим столом. Ели творог со сметаной. Кашу рисовую с маслом. Потом пирожки с капустой. Чаю было сколько хочешь. Кузьмич что-то возился под столом, толкал ногами соседей и тех, что сидели напротив, и, вытаращив глаза, шипел: — На... Только быстро... — Кого? — пугался сосед и оглядывался по сторонам. И каша и пирожки были вкусные. Кузьмич, вылезая из-за стола, даже запел: Бывали дни веселые... А отец совсем раскраснелся, снял галстук и сунул его в карман. Пришел дядя Федя, оперся руками о край стола, оглядел всех нас и сказал: — Наелись? — В самый раз! — Куда лучше! — Пивка бы... — Очень хорошо! — заулыбался дядя Федя.— Просто замечательно! А теперь не расходитесь. Будут затейники. — Ты не больно профсоюзной деньгой сори,— сказал Кузьмич,— затейники можно и к обеду подать. Тут появился какой-то лысый в трусиках и засвистел в дудку. Он подбрасывал кожаный мяч и кричал: — Кто хочет в волейбол? Становитесь за мной! Но в это время прибежала девушка в голубой футболке с белым кантиком вместо воротника и захлопала в ладоши: — Товарищи, есть желающие в крокет? — Волейбол! Волейбол! — свистел в дудку лысый. — Крокет! Крокет! — хлопала девушка. Она хлопала, поглядывала на лысого, и ее подстриженные волосы ровной щеточкой мели по белому канту на футболке. — Ты куда хочешь? — спросил меня отец. — В крокет! — не раздумывая, ответил я. Да и всем тоже больше понравился крокет. И отцу, и Апанасенко, и Петрищеву... Только Кузьмичу — нет. — Ох-хо-хо...— зевнул он.— Вы как хотите, а я полежу маленько. Оказалось, что нашу затейницу зовут Фаиной и что народу за ней пошло больше, чем надо, и оттого всем стало неловко. И Петрищеву неловко, и Апанасенко... Отец то и дело закуривал свои папиросы, и я знал, что ему тоже неловко. Все глазели на затейницу и переминались. А Фаина стояла посередине крокетной площадки и вертела на ладошке деревянный молоток на длинной ручке. Ее стриженые волосы чиркали по белому кантику то вправо, то влево. — Это ничего... Это даже лучше,— смеясь, сказала она.— Будем тянуть жребий. Согласны? Все были согласны, и Фаина подбежала и наклонилась ко мне: — Можно у тебя попросить бескозырку? На моем плече лежала ее загорелая рука, и у моего уха тикали часики. — Тебя как зовут, а? Бескозырку мне не было жалко, но я смотрел на свои сандалии, потому что она заглядывала мне в лицо, и от этого я не мог ничего говорить. — Он у нас дикарь,— сказал отец и снял с меня бескозырку. Мои уши стали горячими. «А сам какой?» — рассердился я на отца. Игра совсем не получалась, потому что никто не умел играть в крокет. — Ух ты, промазал! — багровел отец, растерянно глядя на шар. А тот, подпрыгивая и мелькая красными полосками, скакал с площадки в траву. Я мчался за ним следом и подавал шар Фаине. Я подавал ей в самую руку, как наш Тимурка подавал мне брошенную палку. Он приносил ее, счастливо прижимая уши, и я гладил его по голове за то, что он был такой хороший. Фаина тоже гладила меня по голове и говорила: — Вот молодец! И подбегала к отцу: — Экий вы... неловкий. Смотрите! Смотрите... Она чуть расставляла ноги, опускала отвесно молоток и коротким ударом посылала шар меж проволочных дужек. Отец тоже расставлял ноги и бил — раздавался треск, шар срывался с места, сшибал несколько дужек и, срикошетив, летел в траву. — Вы бьете, как кувалдой,— смеялась Фаина.— Держите молоток свободнее. — Иван, это тебе не на мосту! — хохотал Апанасенко. — Не мой это инструмент,— разводил руками отец и доставал из кармана красивую коробку с папиросами. А вверху все шумели и раскачивали вершинами сосны. Как большие метлы, они то вправо, то влево ходили по небу, разметая высокие облака. И все падали и падали шишки, мягко шлепаясь в сухую рыжую хвою. Гулко и далеко прокатывались по лесу удары крокетных молотков, и путались меж сосен веселый Фаинин смех и сладкий запах отцовских папирос. Мне было радостно догонять шары и подавать их в загорелую Фаинину руку. Я бы бегал так без конца. Я бы хотел не только подавать шары. Я бы хотел... Хорошо быть большим! Вон отец... Она с ним разговаривает и смеется. А он ничего не понимает,— как это хорошо, когда с тобой разговаривает и смеется Фаина... Я зашел за сосну, снял сандалии и полез на дерево. Я карабкался по сухим, обломанным сучьям, потом лез между сучьями, потом опять по сучьям. Все выше и выше. Но я все равно лез, если бы даже сосна была в километр высотой. Что-то неодолимо тянуло меня вверх, туда, где шумел ветер... Я лез, и мелкие золотистые чешуйки сыпались вниз и кружились над крокетной площадкой. Добравшись до самой макушки, я уселся в развилке. Ветер шумел и надувал мою матроску. Сосна качала меня, и я плавно летал среди хвои соседних сосен то вперед, то обратно. Сквозь ветви внизу был виден желтый пятачок площадки. И две маленькие крапинки — белая и голубая. Белая — это отец. Голубая — Фаина. Крапинки то раскатывались, то опять сходились. — Эй, вы-ы! — закричал я изо всей мочи. От моего крика две крапинки сразу замерли. — ...за-ай! — донеслось снизу. — Не слезу-у! — ...дё-ё-ошь! — Не упаду-у! Я обхватил ствол руками и телом стал помогать дереву раскачиваться еще больше. «Ш-ш-ш» — шипела хвоя, когда я летел вперед. «Ш-ш-ш» — шипела она, и я откидывался назад. Мне было и страшно и радостно. Я слышал, как гулко колотилось мое сердце о ствол сосны. Я знал, что теперь Фаина ни на кого не смотрит. Она смотрела только на меня: голубая крапинка по-прежнему не шевелилась на желтом пятачке крокетной площадки. Обедали мы под тем же навесом. Было шумно и весело. Городошники доспаривали какой-то свой спор. Волейболисты умывались на речке и прибежали вместе с лысым, на ходу обтирая носовыми платками мокрые лица и руки. Кеглисты подозрительно пошатывались и тоже расселись всей командой. — Фаина Владимировна! — позвал отец. Он все время держал рядом со мной на скамейке кулак, чтобы никто не занял место.— Фаина Владимировна! Давайте уж и мы вместе... — А, вы тут! — кивнула Фаина и пробралась на нашу сторону. Она была в белой кофточке в желтую горошину. Свежее, умытое лицо розовело надо мной, и я боялся поднять глаза, будто рядом со мной сидело утреннее солнце. — Ну как, нравится тебе у нас? — наклонилась ко мне Фаина — У, какие у тебя черные руки! Руки у меня были в смоле, они не отмывались, и я спрятал их за спину. — Чистый папа! — засмеялась Фаина.— Маленький, а уже медвежонок! — Выходит, я медведь? — сказал отец. — Еще какой! — У медведя губа не дура! — подморгнул Кузьмич, и отец почему-то покраснел и нагнулся к тарелке.— Только гляди — где мед, там и пчела! — погрозил пальцем Кузьмич, и Фаина весело рассмеялась. И все рассмеялись тоже. Но мне было не смешно. Эти взрослые! Никогда не поймешь, чему они смеются. — Давай-ка, Иван, лучше нашей медовухи пропустим,— сказал Кузьмич и опять зачем-то нагнулся под стол. После обеда объявили «мертвый час» и стали всех загонять в палатки. — Ребята, никаких хождений! — кричал дядя Федя.— Шагом марш по палаткам! Кузьмич, ты куда? — Чего шумишь? Нужда имеется. — Очень хорошо! — сказал дядя Федя.— Потом, потом... Ничего не знаю. Мы лежали с отцом на одной койке. Он курил и пускал колечки дыма в комара. Комар пищал и бился о потолок палатки. — Пап, научился в крокет? — Научился,— задумчиво сказал отец и выпустил изо рта белый дымный бублик. Он обнял меня, и его большая тяжелая рука легла мне на грудь. Я лежал, уткнувшись в подмышку, и перебирал отцовы пальцы. Они были корявые и жесткие, с желтыми прокуренными ногтями. На среднем пальце изнутри прощупывалась твердая шишка величиною с желудь. Она мешала пальцу сгибаться, и когда отец сжимал молоток, то держал этот палец чуть в сторону. Там, под кожей, сидел осколок заклепки. Теперь он зарос, и палец не стал сгибаться. — Пап, а почему ты его не вытащил? — Надо было идти в больницу. А мы спешили доделать мост. — Пап, а зачем ты молоток привязываешь на веревку? — Я привязывал, когда болела рука. — Ты так и работал, раненный? — Да. Я заклепал двадцать три тысячи заклепок. — Поэтому ты ударник? — Не я один. И Апанасенко, и Кузьмич, и Петрищев... — Пап, а Фаина кто? — Фаина? Фаина... Спи давай... Когда я проснулся, отца не было. Был один Кузьмич. Он храпел на своей койке, и щетина его усов мерно царапала подушку. Он отдувался, жевал губами и бормотал все то же непонятное: «Аязвитвоюду...» На светлый корпус палатки опустился древесный листок. Сквозь парусину хорошо виден его темный силуэт. Вот он исчез, и на его месте осталась одна черточка. Потом опять появился листок, потом опять черточка. И я догадался: это сидела бабочка. Она складывала и развертывала крылья, греясь на теплой парусине. Хорошо здесь! Весело как-то. И все такие хорошие. И Кузьмич, и дядя Федя, и Апанасенко, и все, все... Вырасту — стану ударником. Буду играть в крокет с Фаиной. Буду всегда любить ее... По крыше стукнула шишка и покатилась, подпрыгивая. Бабочка улетела. Буду играть в крокет с ней там, на площадке под соснами. За палаткой на дорожке послышались шаги. И голоса: — Куда девать весла? — Давайте я занесу в кладовую. Мне по пути. — Может, посидим? — Нет, пойду к себе. Я устала. От воды шумит в голове. — Это сначала. — Очень высоко. Я никогда не прыгала с моста... — А я привык... Бывало, в обеденный перерыв снимаю спецовку и с самого верха фермы... — Ну, пока. — Счастливо. В палатку, пригибаясь, вошел отец. Я слушал, как он тихо напевал: Мы красна кавалерия, и про нас... — Ты не спишь? — спросил он, присаживаясь рядом на койку и приглаживая мокрые волосы. Я глянул и испугался. — Пап, а ты все-таки зазеленил брюки. — Правда? — Посмотри, сзади. Мамка теперь будет ругаться. — А, ладно! — усмехнулся отец. Вечером мы пили чай, а после было кино. Но я не досмотрел до конца и уснул у отца на коленях. А потом поехали домой. В кузове было мало людей. Многие уехали раньше. Отец и Фаина стояли рядом, держась за кабину. Грузовик, урча и покачиваясь, пробирался сквозь темный лес, тускло светя фарой. Было холодно, и отец сказал мне сердито: — Почему ты не идешь к Кузьмину в кабину? — Не хочу! — Но здесь же холодно! — Нет! — Женька, надеру уши... Разве он поймет, почему я не иду в кабину? Пусть, пусть надерет уши... Пусть... Но все равно... Все равно я вырасту большой... — Ну, зачем же так! — сказала Фаина.— Иди сюда, малыш. Становись между нами. Так будет лучше... Она обхватила меня рукой, и я прижался к ее теплому боку. Над моим ухом тикали часики. Я плакал. Тихо, чтобы никто не услышал. Но она поняла. Она нагнулась и зашептала на ухо: — Не надо, маленький. Ну что так? Папа не хотел тебя обидеть. Он добрый, твой папа... Ты устал. Сразу столько впечатлений! Ну-ка, повернись ко мне. И она вытерла мне нос мягким душистым платком. Выбрались на шоссе. Грузовик осмелел и помчался, дребезжа фарой. Свет выхватил впереди что-то высокое и темное. Оно накатилось на нас и справа, и слева, и сверху и гулко загрохотало. — Мост! — сказал отец. — Да...— выдохнула Фаина. — Вы бы сейчас прыгнули? — спросил отец. — Сейчас? Ночью? — удивилась Фаина и сказала: — С вами — да! Свет метался по бесконечным стальным сплетениям, и в тишине ночи над неведомой глубиной гулко и раскатисто рокотали пролеты. — Что же мы молчим? — сказал дядя Федя.— А ну, давай, ребята! Петрищев! — И, не дожидаясь, сам затянул весело и громко:
Мы кузнецы, и дух наш молод, Куем мы счастия ключи...
Над нами, перечеркнутые на мгновение стальными балками, гасли и снова вспыхивали звезды. Гасли и вспыхивали...
На главную |