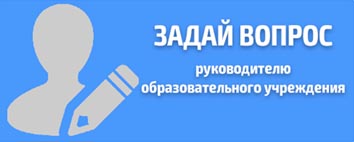Электронная библиотека | Биография Некрасов Виктор Платонович
Назад Вперед
Пьянеешь от воздуха, ноги с непривычки болят, все тело слегка ломит, и все-таки не можешь остановиться и идешь, идешь, идешь куда глаза глядят, расстегнутый, без шапки, вдыхая полной грудью теплый, до обалдения ароматный весенний воздух.
Взяли все-таки сопку. И не так это сложно оказалось. Видно, у немцев не очень-то густо было. Оставили заслон, а сами за «Красный Октябрь» взялись. Но я их знаю, так не оставят. Если не сейчас, то с утра обязательно отбивать начнут. Успеть бы только сорокапятимиллиметровки сюда перетащить и овраг оседлать. Начнет сейчас Харламов возиться — искать, укладывать, раскачиваться. Там, правда, начальник связи с ним. Вдвоем осилят, не так уж и сложно. Лопаты синицынские все еще у меня, до утра бойцы окопаются, а завтра ночью начну мины ставить.
Вифлеемская звезда сейчас уже над самой головой. Зеленоватая, немигающая, как глаз кошачий. Привела и стала. Вот здесь — и никуда больше.
Луна выползла, болтается над самым горизонтом, желтая, не светит еще. Кругом тихо, как в поле. Неужели правда, что здесь бой был?
* * *
Потом мы сидим в блиндаже. Глубокий, в четыре наката и сверху еще земли с полметра. Дощатые стены, оклеенные бумагой вроде клеенки. Над ломберным столиком с зеленым сукном и гнутыми ножками открытки веером — еловая веточка с оплывшей свечкой, круглоглазый мопс, опрокинувший чернильницу, гном в красном колпаке и ангел, плывущий по небу. Чуть повыше — фюрер, экзальтированный, с поджатыми губами, в блестящем плаще.
На столе лампа с зеленым абажуром. Штук пять бутылок. Шпроты. Лайковые перчатки, брошенные на койку.
Чумак чувствует себя хозяином, наливает коньяк в тонконогие с монограммами бокалы.
— Позаботился все-таки фюрер о нашем желудке… Спасибо ему.
Коньяк хороший, крепкий, так и захватывает дух. Карнаухов выпивает и сейчас же уходит. Чумак с любопытством рассматривает переплетающиеся виноградные лозы на бутылочных этикетках.
— А рука у вас тяжелая, лейтенант. Никогда не думал.
— Какая рука? — Золотистые глаза смеются.
— Да вот эта, в которой папироса у вас. Ничего не понимаю.
— А у меня вот до сих пор левое плечо как чужое.
— Какое левое плечо?
— А вы не помните? — И он весело хохочет, запрокинув голову. — Не помните, как огрели меня автоматом? Со всего размаху. По левой лопатке.
— Постой… Постой… Когда же это?
— Когда? Да с полчасика тому назад. В окопе. За немца приняли. И как ахнули!… Круги только и пошли. Хотел со зла ответить. Да тут фриц настоящий подвернулся. Ну, дал ему…
Я припоминаю, что действительно кого-то бил автоматом, но в темноте не разобрал — кого.
— За такой удар и часики не жалко, — говорит Чумак, роясь в кармане. Хорошие. На камнях. Таван— Вач.
Мы оба смеемся.
В блиндаж вваливаются связисты с ящиками, с катушками. Дышат, как паровозы.
— Еле добрались. Чуть к фашистам в гости не попали.
— Как так?
Белесый с водянистыми глазами связист, отдуваясь, снимает через голову аппарат.
— Да они там по оврагу, как тараканы, ползают.
— По какому оврагу?
— По тому самому… где передовая у нас шла. Глаза у Чумака становятся вдруг маленькими и острыми.
— Ты один или с хлопцами? — спрашиваю я.
— А хлопцы ни при чем. Я и сам сейчас… Схватив автомат и забыв даже бушлат надеть, исчезает в дверях.
Неужели отрезали? Связисты тянут сквозь дверь провод.
— Это точно, что немцы в овраге?
— Куда уж точнее, — отвечает белесый, — нос к носу столкнулись. Человек пять ползло. Мы еще по ним огонь открыли.
— Может, то наши новую оборону занимали?
— Какое там наши. Наши еще в окопах сидели, когда мы пошли. Командира взвода еще по пути встретили, что с горлом перевязанным ходит. Начальника штаба искал.
— А ну давай, соедини с батальоном. Белесый навешивает на голову трубку.
— Юпитер… Юпитер… Алло… Юпитер…
По бесцветным, с белыми ресницами, глазам его вижу, что никто не отвечает.
— Юпитер… Юпитер… Это я — Марс…
Пауза.
— Все. Перерезали, сволочи. Лешка, сходи проверь…
Лешка, красноносый, лопоухий, в непомерно большой пилотке, ворчит, но идет…
— Перерезали. Факт… — спокойно говорит белесый и вынимает из— за уха загодя, должно быть, еще на месте скрученную цигарку.
Я выбираюсь наружу. Со стороны оврага доносится автоматная стрельба и одиночные ружейные выстрелы.
Потом появляется Чумак.
— Так и есть, комбат, — колечко.
— Угодили, значит?
— Угодили. В окопах, что по этому склону, расположились фрицы.
— И много?
— Разве разберешь? Отовсюду стреляют.
— А где Карнаухов?
— Пулемет переставляет. Придет сейчас.
Чумак вынимает зеленую пачку сигарет.
— Закуривайте. Трофейные.
Закуриваем.
— Да, Чумак, влопались. Что и говорить!
— Влопались, — смеется Чумак. — Но ничего, комбат. Выкрутимся. Мои хлопцы тоже здесь. Пулеметы есть. Запасов хоть отбавляй, они все побросали. В термосах даже ужин горячий. Чего еще надо?
Подходит Карнаухов. Он уже занял круговую оборону. Нашел два немецких пулемета. Гранат тоже много. Ящиков десять нетронутых. И, кроме того, в каждой ячейке, в нишах лежат.
— Паршиво только, что с нашей стороны ихние окопы не простреливаются. Круто больно.
— А сколько людей всего у нас?
— Пехоты — двенадцать. Двоих так и не нашел. Два пулемета станковых. Два ручных. Немецких еще два. Шесть, значит.
— Моих ребят еще трое, — вставляет Чумак, — да нас трое. Да двое связистов. Жить можно.
— Двадцать шесть, выходит, — говорю я. Карнаухов подсчитывает в уме.
— Нет, двадцать два. Ручные пулеметчики не в счет, они в числе тех двенадцати.
Со стороны оврага стрельба не прекращается. То вспыхивает, то замирает. Стреляют, по— видимому, наши — с той стороны. Немцы отвечают. Трассирующие пули, точно нити, перебрасываются с одной стороны оврага на другую. По нас стрелять немцам из оврага неудобно. Положение у них тоже не очень-то зажаты с двух сторон.
Потом стрельба начинается где-то левее. Немцы подтягиваются. Обкладывают нас. Ракет, правда, не бросают; трудно определить точно, где теперь их передний край проходит.
Мы идем проверять огневые точки.
— 12 -
Глупо все получилось. Незачем было мне в атаку ходить. Комбат должен управлять, а не в атаку ходить. Вот и науправлял. Положился на первый батальон. А ведь точно договорился с Синицыным: как дам красную ракету, открыть огонь из всех видов оружия, устроить маленькую демонстрацию, чтоб дать возможность моим остаткам занять новые позиции. Впрочем, они, кажется, стреляли. Это Харламов с начальником связи провозились. А зубастый капитан, точно предчувствовал, о флангах спрашивал. Вот злится сейчас, должно быть. Или торжествует. Он, по— моему, из такой породы людей. Звонит, вероятно, уже по всем телефонам: «Говорил я, предупреждал… а он даже слушать не хотел. Прогнал. Вот и довоевался…»
Можно, конечно, прорваться сейчас к своим. Но к чему это приведет? Сопку потеряем и черта с два уже получим. Сидеть без дела, отстреливаться тоже глупо. Но не будут же наши лежать там, на той стороне оврага, сложа руки. И третьему батальону сейчас самый раз начать действовать, отрезать мост и соединяться с нами.
Дня на два боеприпасов у нас хватит. Даже если все время придется отражать атаки. Почти весь вчерашний день наши пулеметы нарочно молчали, патроны экономили. Гранаты тоже есть. Людей вот только маловато. И все на пятачке. От мин немецких отбоя не будет.
В начале пятого немцы переходят в атаку. Пытаются проползти незаметно. Пулеметы наши еще не пристреляны, но отражаем мы эту первую атаку довольно легко. Немцы даже до окопов не дошли.
В двух местах наши траншеи соединяются с немецкими. Два длинных соединительных хода правильными зигзагами тянутся в сторону водонапорных башен.
Глубокие, почти в полный рост. С нашей стороны их совсем не было видно. Я приказываю их перекопать в нескольких местах.
Опять оплошность. Саперных лопат с собой не захватили, а среди трофейных нашли только три, правда крепкие, стальные, с хорошо обтесанными рукоятками.
Только мы приступаем к копке, как начинается минометный обстрел. Сначала одна, потом две, а к вечеру даже три батареи. Мины рвутся беспрерывно, одна за другой. С чисто немецкой методичностью обрабатывают нас. Сидим в блиндажах, выставив только наблюдателей.
Два человека выходят из строя. Одному перебивает ногу, другому вышибает глаз. Перевязываем индивидуальными пакетами, другого у нас ничего нет.
После полудня опять начинаются атаки. Три подряд. Роты две, никак не меньше. Пока есть пулеметы, это меня не страшит. Четырьмя пулеметами мы и целый полк удержим. Хуже будет, если появятся танки. Местность со стороны баков ровная, как стол. А у нас всего два противотанковых ружья симоновских. Может, наши догадаются установить сорокапятимиллиметровки на той стороне оврага.
Часа в три начинает работать наша дальнобойная с того берега. Около часа стреляют. Довольно метко. Мы успеваем даже пообедать. Снаряды рвутся совсем недалеко, метрах в ста от нашей передовой. Одна партия совсем близко — осколки через нас перелетают. Часа два немцы нас не тревожат.
Потом, под самый вечер, еще две атаки, артналет — и все. Воцаряется тишина. Появляются первые ракеты.
— 13 -
Развалившись на деревянной койке, Чумак рассказывает о какой-то госпитальной Мусе.
Мы с Карнауховым чистим пистолеты.
Удивительно мирно светит лампа из— под зеленого абажура.
— Порядки знаешь какие там? — говорит Чумак. — В Куйбышеве. Ворота на запор. Часовой. Как в тюрьме. Только по дворику гуляй. А дворик — как пятачок. Со всех сторон стены, а посредине асфальт, скамеечки, мороженое продают. Вот и гуляй по этому дворику и сестер обсуждай. А сестры ничего боевые. Только начальства боятся. Посидят рядом на лавочке или к койке подсядут, но чтоб чего-нибудь — ни в какую… Нельзя — и все… Пока лежачим был — ничего, не тянуло. Даже пугаться начал. А потом, как стал ходить, вижу — оживаю, начинает кровь играть. Но играть-то играет, а толку никакого. «Нельзя, товарищ больной. Не разрешается. Отдыхать вам надо. Поправляться…» Нечего сказать, хорош отдых. Валяйся на койке да в кино по вечерам ходи. А картины все старые — «Александр Невский», «Пожарский», «Девушка с характером». И рвутся, как тряпки. И гипсом воняет. Бррр— р…
Карнаухов улыбается уголком рта.
— Ты ближе к делу, о Мусе какой-то начал.
— И о Мусе будет. Не перебивай. А не нравится — не слушай. Иди пулеметы свои проверяй. Я лейтенанту расскажу. Лейтенант еще не лежал никогда. Научить надо.
Тянется за другой сигаретой.
— Слабые, сволочи. Не накуришься… — и, демонстративно повернувшись в мою сторону, продолжает: — Рука, значит, в гипсе. Лучевую кость раздробило левую. Ночью спишь, никак не пристроишь. Торчит крючок — и все. Хорошо еще, ниже локтя разбило. А у тех, что выше или ключица, совсем дрянь. Через всю грудь панцирь такой гипсовый, и рука на подставке. Их в госпитале «самолетами» называют. Ходят, а рука на полметра впереди. А вторая рана в задницу. Так и сидит до сих пор там осколок. Сейчас ничего не чувствую. А тогда — на ведро сходить, и то событие. И Муси стесняюсь… А бабец — что надо! Косищи — во какие. И халатик в обтяжку. Сам понимаешь. Подсядет на койку — я еще не ходил, — яичницей порошковой кормит с ложечки, а я как на иголках… Потом стали мы в окна вылазить… Из ванны там хорошо прыгать было. Метра два, не больше. Станешь на отопление и как раз подбородком в подоконник. Капитан там один со мной лежал. Инженер — как ты.
Культурный парень, с образованием, до войны на заводе главным инженером работал. Так мы с ним, в одних кальсонах и ночных рубашках с госпитальным клеймом, пикировали. А за углом дом был знакомый. Там переодевались — и в город. Капитан был в живот ранен, но поправлялся уже. Вылезал первым, потом за крючок гипсовый меня подтягивал. Так и сигали. А когда забили окно, заведующая пропускником увидала, — наловчились по водосточной трубе слезать. И как еще слезали!… Один безногий у нас там был. Нацепит костыли на одну руку, и — как мартышка, только штукатурка сыплется. Приспосабливается народ. Под землю зарой, и то спикирует.
Карнаухов смеется.
— У нас в Баку во время кино пикировали. Только и слышно за окном хлоп— хлоп— хлоп, один за другим. Кончится сеанс, а в зале только лежачие на койках.
— Что кино… — не поворачиваясь, перебивает его Чумак, — мы в шестой палате лестницу веревочную сделали. Все честь честью, с перекладинами, как надо. Недели две пользовались. Толстенное дерево там под окном стояло, никто не видел. А потом стали окна мыть, начальство какое-то ждали, и сорвали нашу лестницу. Всю палату к начальнице отделения вызывали. Да что толку. На следующий день из седьмой палаты запикировали…
Скребутся между бревен мыши. Где-то далеко, наверху, потрескивают редкие ночные мины.
Желтобородый гном сидит на мухоморе и курит длинную заковыристую трубку с крышкой. Ангел летит по густому чернильному небу. Удивленно смотрит на опрокинутую чернильницу мопс. Гитлеру кто-то приделал бороду и роскошные мопассановские усы, и он похож сейчас на парикмахерскую вывеску.
В соседнем блиндаже лежат раненые. Все время пить просят. А воды в обрез, два немецких термоса на двадцать человек.
За день мы отбили семь атак и потеряли четырех человек убитыми, четырех ранеными и один пулемет.
Я смазываю пистолет маслом и кладу его в кобуру. Вытягиваюсь на койке.
— Что — спать, лейтенант? — спрашивает Чумак.
— Нет, просто так, полежу.
— Слушать надоело?
— Нет, нет, рассказывай. Я слушаю.
И он продолжает рассказывать. Я лежу на боку, слушаю эту вечную историю о покоренной госпитальной сестре, смотрю на лениво развалившуюся на койке фигуру в тельняшке, на ковыряющиеся в пистолете крупные, блестящие от масла пальцы Карнаухова, на падающую ему на глаза прядь волос. Сгибом руки, чтоб не замазать лица маслом, он поминутно отбрасывает ее назад. И не верится, что час или два назад мы отбивали атаки, волокли раненых по неудобным, узким траншеям, что сидим на пятачке, отрезанные от всех.
— А хорошо все-таки в госпитале, Чумак? — спрашиваю я.
— Хорошо.
— Лучше, чем здесь?
— Спрашиваешь. Лежишь, как боров, ни о чем не думаешь, только жри, спи да на процедуры ходи.
— А по своим не скучал?
— По каким своим?
— По полку, ребятам.
— Конечно, скучал. Потому и выписался на месяц раньше. Свищ еще не прошел, а я уже выписался.
— А говорил, в госпитале хорошо, — смеется Карнаухов, — жри и спи…
— Чего зубы скалишь? Будто сам не знаешь, не лежал. Хорошо, где нас нет. Сидишь здесь — в госпиталь тянет, дурака там повалять, на чистеньких простынках понежиться, а там лежишь — не знаешь, куда деться, на передовую тянет, к ребятам.
Карнаухов собирает пистолет, — у него большой, с удобной для ладони рукояткой, трофейный «вальтер», — впихивает его в кобуру.
— Ты сколько раз в госпитале лежал, Чумак?
— Три. А ты?
— Два.
— А я три. Два раза в армейских, а раз в тыловом.
Карнаухов смеется:
— А странно как-то, когда назад, на фронт возвращаешься. Правда? Заново привыкать надо.
— Из армейских еще ничего, там недолго лежишь. А вот из тыловых… Из Куйбышева я ехал. Даже неловко было. Хлопнет мина, а ты на корточки.
Оба смеются, и Чумак и Карнаухов.
20 стр
Назад Вперед