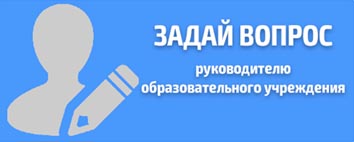Электронная библиотека | Биография Некрасов Виктор Платонович
Назад Вперед
Неужели немец уже до воды добрался? Несколько длинных очередей перелетает через Волгу и теряется на этой стороне.
Откуда— то из— за спины стреляет «катюша». Мы видели машины — восемь штук, — когда шли сюда. Раскаленные снаряды, не торопясь, плывут, обгоняя друг друга в дрожащем от зарева небе и ударяют куда-то на противоположном берегу. Разрывов не видно. Видны только вспышки. Потом доносится и треск.
Кто— то рядом со мной плюет и удовлетворенно покряхтывает. Только сейчас замечаю, что рядом с нами, растянувшись, лежат бойцы.
— Ты мерина успел подковать? — спрашивает кто-то.
— Успел. А ты?
— Лютика успел, а вороному только две передние. У него какая-то рана. Никак не дается. Приходит комбат. Тяжело дышит
— Ей— богу, с ума сойдешь от этих переправ. Лет на пять постареешь. — Он громко сморкается. — Был генерал. Ясно сказал: сейчас мы, а потом Двадцать девятая. Только на минуту отошел от причала, а они свои ящики уже навалили. Артиллерию, видишь ли, переправили, а боеприпасы на этой стороне оставили. А кто им мешал? Я вот с каждой пушкой снаряды везу. Господи, опять этот черт.
Комбат снова скрывается. Слышно, как кого-то ругает. Возвращается.
— Ну ладно, все это чепуха. На ту сторону как-нибудь переберемся. Важно, как там…
Выясняется, что полк получил приказ к двум ноль— ноль закончить переправу; а к четырем ноль— ноль сменить почти не существующую уже на том берегу дивизию в районе «Метиз» — Мамаев курган. Сейчас уже час, а ни один батальон еще не переправился. На той стороне только саперы, разведчики и опергруппа штаба. Командир полка и начальник штаба, кажется, тоже там. Главное, надо всю артиллерию — сорока пяти и семидесяти шести, приданную батальону, — к рассвету перетащить на передовую, на прямую наводку.
— Хорошо, — говорю я, — дашь мне две роты и петеэровцев, а сам, с одной ротой, занимайся артиллерией. У тебя по скольку человек в роте?
— Человек по сто.
— Роскошно. Договорились, значит. Мне только точно место назначения дай.
— Да вот этот треугольник проклятый на карте. Откровенно говоря, я думаю, что там никого уже нет. В той дивизии человек сто, не больше. Две недели на том берегу уже дерутся.
И он опять убегает с кем-то ругаться. Голос у него такой, что, вероятно, на той стороне слышно.
Приходит катер. Он маленький, низенький, будто нарочно спрятавшийся в воду, чтобы его не было видно. На буксире разлапистая, неуклюжая баржа с длинным торчащим рулем.
Катер долго не может пристать, пятится, фырчит, брызгается винтом. Наконец сбрасывает сходни. Длинной, осторожной цепочкой спускаются раненые. Их много. Очень много. Сперва ходячие, потом на носилках. Их уносят куда-то в кусты. Слышны гудки машин.
Потом грузят ящики. Закатывают пушки. Топчутся лошади по сходням. Одна проваливается, ее вытаскивают из воды и опять ведут. Против ожидания, все идет спокойно и организованно. Даже комбата моего не слышно.
Мы отчаливаем, когда уже начинает светать, и сплошная масса, как казалось раньше, чего-то неопределенного за нашей спиной превращается в легкое кружево осинника. Мы стоим, вплотную прижавшись друг к другу. Кто-то дышит мне прямо в лицо чесноком. Глухо стучит где-то под ногами машина. Кто-то грызет семечки, шумно сплевывая. Валега, облокотившись на шинель, перекинутую через борт, смотрит на горящий город.
— Большой он все-таки, — говорит кто-то за моей спиной, — как Москва.
— Не большой, а длинный, — поправляет чей-то мальчишеский голос, пятьдесят километров в длину. Я был до войны.
— Пятьдесят?
— Тютелька в тютельку, от Сарепты до Тракторного. Ого!
— Что «ого»?
— Войск много надо, чтоб удержать. Дивизий десять. А то и пятнадцать.
— А ты думаешь, тут меньше? Каждую ночь перебрасывают.
Катер огибает острую, почти незаметную в темноте косу.
Где-то над нами пролетают со свистом мины. Ударяются позади в воду.
— Не нравится фрицу, что едем, в Волгу спихнуть хочет.
Мальчишеский голос смеется:
— А чего же ему хотеть? Конечно, спихнуть. Рус бульбуль, — и опять смеется.
— Фрицу многое чего хочется, — вступает кто-то третий, по— видимому, пожилой, судя по голосу, — а нам никак уже дальше нельзя… До точки уже допятились. До самого края земли. Куда уж дальше…
Слышно, как кто-то кого-то хлопает по шинели.
— Правильно, папаша. Вот это по— нашему, по— моряцки. Сами уж никак купаться не полезем. Больно вода холодная… Правда?
И все смеются.
Я стараюсь повернуть голову. Это очень трудно, — я сжат со всех сторон. Скошенным глазом вижу только белесые пятна лиц и чье-то ухо. Мы подъезжаем к берегу.
— 19 -
Катер опять никак не может подойти вплотную к причалу. Соскакиваем прямо в воду, мутную и холодную.
На берегу тащат какие-то ящики. Ими завален весь берег. Под ногами путаются цепи, тросы. На ящиках и просто на земле раненые — молчаливые и угрюмые, прижавшиеся друг к другу.
Берег у реки плоский, песчаный. Дальше — высокий, почти вертикальный обрыв. И над всем красное, заваленное дымом небо. Стреляют совсем рядом, как будто за спиной. Становится прохладно, и я надеваю шинель.
Комбат — оказывается, его фамилия Клишенцов — кричит на кого-то, не так повернувшего пушку:
— Ну, чего ты ее лафетом вперед тычешь. Мозги, что ли, не варят, телячья голова…
Бойцы шлепают по воде с пулеметами, минометами, болтающимися на спине и груди минами. Собираются кучками на берегу. Конечно, закуривают. Клишенцов подбегает ко мне. Он совсем уже охрип.
— Бери четвертую и пятую и двигай! А я пушки сгружу. И сразу за вами… Связного только пришлешь, чтоб зря не шататься. Сидорко такой у меня есть. Все найдет. Спросишь у Фарбера, командира пятой роты. — И, притянув к себе за борт шинели, шепчет в ухо: — Говорят, от той дивизии ничего не осталось. Постарайся наших разведчиков найти. Они где-то там… В бой без меня не впутывайся, — сует мне в руку фляжку. — На, подкрепись на дорогу.
Водка приятно обжигает горло и горячей струйкой пробегает внутри.
Командиры собирают людей. Один долговязый, сутулый, в короткой по колено шинели, в очках. Его фамилия Фарбер. По— видимому, из интеллигентов «видите ли», «собственно говоря», «я склонен думать». Другой, Петров, тоненький, щупленький, совсем мальчик. Меня это не очень радует.
Идем вдоль берега, в сторону города. Ноги вязнут в песке. Иногда приседаем, когда свистят мины. Бойцы идут молча, с трудом передвигая ноги, тяжело дыша, придерживая руками болтающиеся мины. Они сегодня прошли около сорока километров.
Навстречу — вереницы раненых, по двое, по трое или в одиночку, опираясь на винтовки. Спрашивают, где переправа.
Пули свистят над самой головой. Шлепают в воду. Трассирующие высоко подпрыгивают и гаснут, в воздухе.
— Где немцы? — спрашивают бойцы у встречных. Те неопределенно машут в ту сторону, куда мы идем.
— Недалеко… Ближе, чем до дому…
Проходим мимо белой постройки, должно быть водокачки; от нее тянутся трубы". Потом дорога подымается вверх. По ней на руках тащат вниз пушку.
— Куда? — спрашиваю. Никто не отвечает.
— Куда пушку тащите?
— А ты кто такой? Не видишь, что делается? Немцам, что ли, оставлять.
Я вынимаю пистолет.
— Поворачивай назад…
— Куда?
Кто— то в расстегнутой шинели, в съехавшей на затылок пилотке толкает меня в грудь.
— Видали мы таких… Герой! Не обращай внимания, Кацура! Тащи!
Я чувствую, что мне вдруг не хватает воздуха и что-то сжимает горло.
Пули ударяют уже по самому берегу.
На верху дороги, — отсюда виден только задранный шлагбаум, поваленный столб и мотки сваленной проволоки, — появляются несколько фигур.
Приткнувшись к столбу, они стреляют, потом бегут вниз.
Кто— то задевает меня плечом и чертыхается.
Я поворачиваюсь и ударяю с размаху в белое, прыгающее передо мной лицо.
— Назад!… — кричу я во все горло так, что у меня в ушах звенит, и бегу вверх по дороге.
Немцы оказываются сразу же за железной дорогой. Пути идут почти по самому краю высокого берега. Застывшие вереницы цистерн на фоне чего-то горящего. Строчит наш пулемет откуда-то справа, из— под колес.
Я пролезаю под вагоном. Шинель цепляется за что-то и трещит. Ужасно мешает, путается между ног. Прижавшись лицом к рельсу — он приятный и холодный, — стараюсь рассмотреть, где немцы. Перпендикулярно к путям — улица. Мощеная, страшно прямая. Налево нефтебаки. Из одного валит дым. В стене три большие дыры от снарядов с рваными краями. Точно раны. Направо обгоревшие сараи, огороженные колючей проволокой.
Немцы, по— видимому, сидят в баках — красные, белые, зеленые точки несутся оттуда. Цокают по цистернам.
Мысль работает невероятно отчетливо. Пулеметов у них, по— видимому, два, и, по— моему, ручные. Минометов нет. Это хорошо. Фарберу надо ударить слева прямо в баки. Мне — по дороге — в обход баков справа. Пулеметы стреляют в лоб. Надо успеть пробежать через дорогу и дальше вдоль каменной стенки.
Фарбер отползает. Ползет неловко, как-то бочком, припадая на правую сторону.
Несколько пуль щелкает в цистерну, над самой головой. Тонкая, изогнутая струйка керосина бьет в рельс передо мной, и я чувствую на лице мелкие, как из пульверизатора, брызги. Взлетает ракета. Освещает баки, сараи, каменную стенку. Неестественно пляшут тени, укорачиваясь и удлиняясь. Ракета падает где-то за нами, слышно, как шипит.
Пора… Я закладываю пальцы в рот, — свисток свой я потерял еще под Купянском. Мне почему-то кажется, что свистит кто-то другой, находящийся рядом.
Бегу прямо на бак с тремя дырками. Справа и слева кричат. Трещат автоматы. Бьют по колену засунутые в карман шинели магазины автомата. Кто-то с развевающимися ленточками бескозырки бежит впереди меня. Я никак не могу его догнать. Баки куда-то исчезают, и я вижу только ленточки. Они страшно длинные, — вероятно, до пояса.
Я тоже что-то кричу. Кажется, просто «а— а— а— а». Бежать почему-то легко и весело. И мелкая дрожь в животе — от автомата. Указательный палец до боли в суставах прижимает крючок.
Опять появляются баки, но другие — поменьше, с трубами, извивающимися как змеи. Труб много, и через них надо прыгать.
За баками немцы. Они бегут навстречу нам и тоже кричат. Черные ленточки исчезают. Вместо них серая шинель и раскрытый рот. Тоже исчезает. В висках начинает стучать, и почему-то болят челюсти.
Немцев больше не видно.
Впереди белые с железной решеткой ворота. Вот до них добегу и сяду, а потом дальше… Но я не могу остановиться. Ворота уже позади, а передо мной асфальтовая дорожка и какие-то корпуса.
Потом я лежу на животе и никак не могу всунуть новый магазин в автомат. Руки трясутся. В пазу что-то застряло.
— Перебило автомат… Возьмите этот…
Это, кажется, Валега, но у меня нет времени оборачиваться.
Сквозь сетку — я лежу у низенькой каменной стенки, с мелкой, как в птичниках, натянутой сеткой — опять видны бегущие немцы. Их много. Они бегут через заводской двор, стреляют из своих черных автоматов, прижимая их к животам, и это похоже на какой-то нелепый фейерверк. Немцы даже днем стреляют трассирующими пулями.
Я выпускаю целый магазин, потом другой. Фейерверк исчезает. Становится вдруг сразу тихо. Я пью воду из чьей-то фляжки и никак не могу оторваться.
— Селедку, что ли, ели, товарищ лейтенант? — говорит кто-то, придерживающий фляжку, чубатый, в тельняшке и матросской бескозырке, маленькой и мятой.
Я допиваю воду.
Никогда такой, кажется, вкусной, холодной не пил. Ищу Валегу. Он тут же, набивает магазин. Маленькой золотой кучкой лежат сбоку патроны. Рядом с ним круглолицый парень торопливо, затяжка за затяжкой, докуривает бычок. Плюет на него и вдавливает в землю.
Впереди двор — асфальтированный, совершенно гладкий заводской двор. За ними свалка железа, паровоз с разбитыми вагонами и какое-то белое строение вроде железнодорожного блокпоста с балкончиком. Сзади тоже двор — пустой и большой.
Место дрянное: ни окопаться, ни укрыться — один низенький каменный заборчик.
Надо захватить будку и железо, это ясно. Здесь нам не усидеть. Я передаю приказание Фарберу и Петрову. Они тоже возле стенки, справа и слева от меня. Парень в тельняшке втыкает капсюли в круглые с крупными насечками гранаты.
— Во… правильно, — подмигивает он черным сощуренным глазом. — Я эту будку знаю. Мировая будка. И подвальчик что надо!
— Ты был там?
— Всю ночь просидели. Пока фриц не выгнал.
С вечера еще пришли. Разведка. КП искали.
Сует гранату в карман, одну втыкает за пояс. Фарбер подает знак, что у него все готово. Несколько позже — Петров. Немцы начинают стрелять из пулеметов откуда-то слева. Окопались уже, значит, сволочи. Надо торопиться, пока другие не заработали.
Парень в тельняшке, пригнувшись, точно на старте, — одна нога отставлена, другая согнута, — уголком глаза, напряженного, немигающего, смотрит на меня. На левой руке, чуть пониже локтя, что-то наколото, кажется, имя.
Я даю сигнал.
Что— то мелькает — темное и быстрое, обдающее ветром. Со стенки сыплется штукатурка. Парень в тельняшке бежит прямо к будке, размахивая автоматом. До будки метров шестьдесят, и двор абсолютно гладкий.
И вдруг весь он заполняется людьми, бегущими, кричащими, зелеными, черными, полосатыми. Парень в тельняшке уже у будки. Исчезает в дверях. Немцы беспорядочно стреляют. Потом перестают. Видно, как они бегут за будкой. Их легко узнать по широким, без поясов, шинелям.
Все это происходит так быстро, что я ничего не успеваю сообразить. Вокруг пусто. Я и Валега. И чья-то пилотка на сером асфальте.
Перелезаем через сетку. Согнувшись, бежим к будке. Посреди двора трое или четверо убитых. Все ничком. Лиц не видно.
Около будки длинная, теряющаяся где-то в железе траншея. Спрыгиваю туда. Кто-то роется в карманах убитого немца.
— Ты что делаешь?
Боец, не подымаясь, поворачивает голову. Два серых маленьких глаза на угреватом, смуглом лице удивленно смотрят на меня.
— Как что?… Трофеи беру…
Он засовывает что-то в карман, торопливо, путаясь в цепочке. По— видимому, часы.
— Шагом марш отсюда, чтоб духу твоего не было! Кто-то толкает меня в плечо.
— Да это же мой разведчик, лейтенант. Потише немножко.
Я оборачиваюсь. С сигарой во рту, парень в тельняшке. Глаза у него узкие и недобрые. Блестят из— под челки.
— А ты кто?
— Я? — Глаза его еще больше суживаются, и на шершавых загорелых щеках прыгают желвачки. — Командир пешей разведки — Чумак.
Каким— то неуловимым движением губ сигара перебрасывается в другой угол рта.
— Сейчас же прекрати этот кабак. Понятно? Я говорю медленно и неестественно спокойно.
— Собери своих людей, расставь посты. Через пятнадцать минут придешь и доложишь. Ясно?
— А вы кто такой, что приказываете?
— Ты слыхал, что я сказал? Я лейтенант, а ты старшина. Вот и все. И чтоб никаких трофеев, пока не разрешу.
Он ничего не отвечает. Смотрит. Лицо у него узкое, губы тонкие, плотно сжатые. Косая челка свисает прямо на глаза. Стоит, расставив ноги, засунув руки в карманы и слегка раскачиваясь взад и вперед.
Так мы стоим и смотрим друг на друга. Если он сейчас не повернется и не уйдет, я вытащу пистолет.
«Цвик— цвик…» Две пули ударяют прямо в стенку окопа между мной и им.
12 стр
Назад Вперед